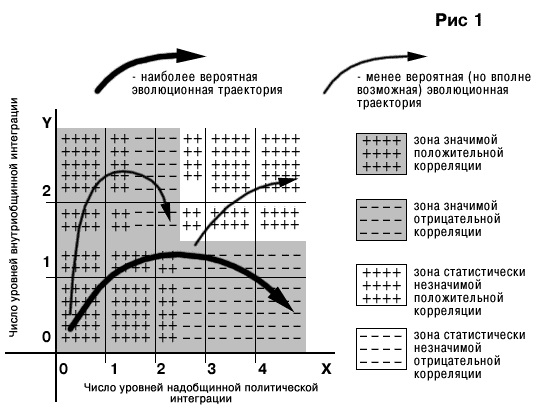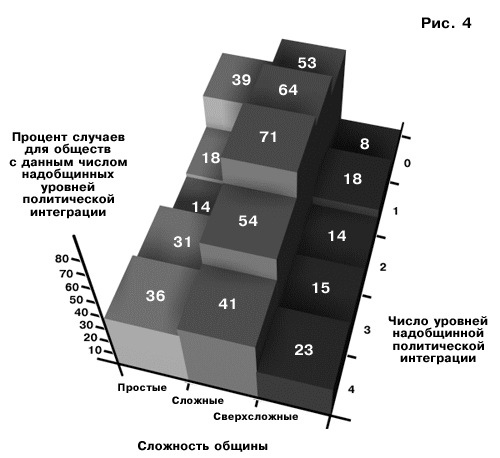|
Андрей Коротаев, Николай Крадин, Валерий Лынша
Альтернативы социальной эволюции
Вводные замечания
Общие понятия: эволюция, развитие, прогресс
Мы принимаем предложение Классена рассматривать эволюцию «как "процесс, посредством которого во времени происходит структурная реорганизация, рано или поздно создающая такую форму или структуру, которая качественно отличается от предыдущей формы"» (см. раздел Классена в данной монографии (с. 7); само определение принадлежит Воже [Voget 1975: 862], однако именно Классен наиболее последовательно отстаивает это определение в рамках нашей дисциплины [Claessen, van deVelde 1982: 11ff.; 1985a: 6ff.; 1987: 1; Claessen 1989: 234; Claessen, forthcoming; Claessen and Oosten 1996 и т.д. См. также, например: Collins 1988: 12-13; Sanderson 1990]). Мы также полностью согласны с Классеном, когда он в гл. 1 настоящей монографии утверждает: "Эволюционизм таким образом становится научной деятельностью по поиску номотетических объяснений для подобных структурных изменений".
Конечно же, подобное понимание эволюции полностью отличается от понимания эволюции тем самым исследователем, который и ввел это понятие в научный дискурс и который предложил свое определение эволюции, сохраняющее эстетическую привлекательность вплоть до настоящего времени — «изменение от несвязной однородности к связной разнородности» (Spencer 1972 [1862]: 71). Определение это подразумевает, конечно, понимание эволюции как двуединого процесса дифференциации и интеграции. В рамках "классеновского" понимания эволюции "спенсеровская" эволюция будет лишь одним [1] из возможных типов эволюционных процессов наряду с [2] эволюцией от сложных к простым социальным системам и [3] структурными сдвигами на одном и том же уровне сложности (что приблизительно соответствует основным направлениям биологической эволюции по Северцову [1939; 1967] — [1] ароморфозу [~ anagenesis в том смысле, который в это понятие изначально вкладывал Ренш (Rensch 1959:281-308; см. также: Dobzhansky et al. 1977; Futuyma 1986: 286)], [2] дегенерации и [3] идиоадаптации [~ cladogenesis [Rensch 1959: 97f.; см. также: Dobzhansky et al. 1977; Futuyma 1986: 286]). Таким образом, "классеновское" понимание социальной эволюции оказывается лучше соответствующим современному пониманию эволюции в биологии, чем «спенсеровское».
Тем не менее, надо подчеркнуть, что процесс, описанный Спенсером, хотя мы и избегаем отождествлять его с эволюцией, является важнейшей (пусть и не единственной) разновидностью эволюционных процессов. Процесс этот, конечно же, заслуживает особого внимания. Вместе с тем, на наш взгляд, никакой особой проблемы с обозначением "спенсеровского" типа эволюционных процессов нет. Действительно, термин для обозначения подобного рода процессов давно уже существует; более того, он широко используется для обозначения именно данного типа процессов. Термин этот — просто развитие. Примечательно, что и в биологии он обозначает как раз движение от несвязной однородности к связной разнородности. Конечно, в биологии развитие и эволюция рассматриваются в качестве совершенно разных процессов. Биологическое развитие ни в коей степени не является частным случаем эволюции. Однако в общественной жизни найти полный аналог биологической дихотомии эволюции и развития крайне сложно, и ниже "спенсеровская" эволюция обозначается именно как «развитие»1.
Представляется необходимым оговорить и наше понимание термина «прогресс».
Как известно, в западной антропологии указанное понятие практически полностью исчезло из академических текстов2 , но оно, похоже, продолжает достаточно активно употребляться в нашей науке (Назаретян 1991; 1995; Журов 1994:94-105 и т.д.). Мы считаем, что это можно только приветствовать, ибо через данное понятие в нашу науку (пускай и в скрытом виде) продолжают проникать два очень важных понятия, табуированных в современной науке, пожалуй, в еще большей степени, чем слово прогресс. Да и, скажем, мы, употребляя соответствующие слова в академическом тексте, испытываем ощутимый дискомфорт. Понятия эти — добро и зло3 . И на наш взгляд, социальная наука, полностью отказавшаяся от изучения связанной с ними проблематики, в значительной степени теряет свой смысл, становится "стерильной".
В свое время мы достаточно долго интересовались проблемой объективных критериев социального прогресса, а относительно недавно мы эту проблему, по крайней мере для нас самих, как нам кажется, решили. На наш взгляд, ответ этот заключается в том, что подобных критериев просто не существует.
Действительно, понятие "прогресс" в том виде, как оно чаще всего употребляется, обозначает не просто рост какого-либо этически нейтрального показателя (например, сложности, дифференцированности, интегрированности) — для этого уже имеется достаточное количество этически нейтральных терминов: "эволюция", "развитие", "рост". Главное отличие от них понятия "прогресс" заключается именно в том, что обычно им обозначается не просто развитие, а развитие от плохого к хорошему, т.е. в конечном счете уменьшение зла и рост добра, и именно из-за этого данное понятие представляется нам столь полезным. Действительно, на самом-то деле любой социальный сдвиг (в особенности, если речь идет о социальных сдвигах в том обществе, в котором мы живем)4 интересен нам не столько своими объективными характеристиками, сколько тем, становится ли нам в его результате хуже или лучше. В конечном счете, самый "объективный" антрополог, если он дает публичные рекомендации5 , рекомендует что-либо именно для того, чтобы кому-то стало лучше (не будет же кто-либо рекомендовать какие-либо шаги, от которых не станет ни хуже, ни лучше). Таким образом в любые, самые наукообразные "объективные" публичные рекомендации встроены авторские субъективные представления о добре и зле (или говоря мягче, о том, "что такое хорошо, и что такое плохо"). И лучше, чтобы эти субъективные представления ясно оговаривались, а не прикрывались маской "научной объективности".
Итак, мы склонны понимать социальный прогресс именно как рост добра/уменьшение зла (или, другими словами, как социальную эволюцию от плохого к хорошему). В то же самое время мы склонны рассматривать понятия "добро" и "зло" в качестве неопределимых. На наш взгляд, любые попытки свести эти категории к каким-либо достаточно определенным и объективным понятиям (таким как, скажем, "приятность/неприятность", "эффективность/неэффективность", "полезность/ вредность") ведут к тому, что эти категории утрачивают свое основное содержание, свою "соль". Между тем мы настаиваем на том, что с данными категориями можно (и нужно) работать, несмотря на их принципиальную неопределимость. Работает же современная наука с такими неопределимыми понятиями, как "вероятность" или "множество", более того современная наука без этих понятий просто невозможна6.
Могут возразить, что работать с указанными понятиями все-таки нельзя, ибо в разных культурах (да и просто у разных людей) существует разное понимание добра и зла. На наш взгляд, это не совсем так. Мы бы скорее сказали, что в разных культурах нередко считают "добрыми" и "злыми" разные явления, а одно явление может считаться "злом" одними и "добром" — другими. Но когда представитель иной культуры говорит нам, что нечто является добром, мы вполне понимаем смысл его высказывания, даже если сами считаем это злом.
Проблема введения в объективное научное исследование таких субъективных категорий, как "добро" и "зло" (да, кстати, и "прогресс"), не столь уж неразрешима, как может показаться. Нужно лишь четко оговаривать субъективность критериев социального прогресса на стадии их введения, после чего с ними можно работать по любой приемлемой научной методике, стремясь при этом свести "зону субъективного" к минимуму. Если же, скажем, такое исследование предполагает какие-либо практические рекомендации (а значит, наряду с авторскими представлениями о добре и зле, не меньшее значение начинают приобретать и подобные представления у тех, для блага которых эти рекомендации предлагаются), то проблема критериев в таких случаях может вполне решаться через поиск консенсуса субъективных представлений о добре и зле (что на самом деле не всегда столь уж сложно) — многие известные демократические процедуры и представляются во многом именно достаточно удачными конкретными путями поиска подобного консенсуса. Но в любом случае на стадии оценки результатов подобной рекомендации значение имеют лишь субъективные представления об этих категориях "объектов рекомендаций" — если даже по "объективным показателям" выходит, что стало лучше, а по субъективному ощущению, например жителей города, где рекомендации были применены и для блага которых они предлагались, выходит, что стало хуже, значит стало хуже.
Конструирование каких-либо "объективных критериев прогресса" является не просто этически ошибочным7 , но потенциально опасным. Скажем, Назаретян в двух своих недавних и в целом крайне интересных монографиях (1991; 1995) рассматривает прогресс как рост устойчивого неравновесия. И, хотя он постоянно оговаривает отсутствие у "прогресса" в его понимании какой-либо этической окраски (прогресс ни хорош, ни плох), это мало помогает. Дело в том, что сколько бы таких оговорок не делалось, "положительные" коннотации у этого понятия все равно сохранятся. Если и не в сознании, то в подсознании у большинства останется ощущение, что прогресс — это то, чего добиваются, достигают и к чему стремятся. А вот нужно ли стремиться любой ценой к увеличению устойчивого неравновесия — уже не самоочевидно. Говоря предельно грубо, задание прогрессу каких-либо "объективных критериев" несет в себе зерна тоталитаризма, ибо потенциально может привести к появлению некой "элиты", "объективно" знающей лучше остальных людей, что этим последним на самом деле нужно.
Сказанное относится в полной мере, например, к марксизму со столь характерным для него представлением о существовании неких "объективных классовых интересов", с неминуемо вытекающим отсюда убеждением о возможности (и необходимости) существования некоей вооруженной истинным научным знанием элиты, представляющей, скажем, действительные интересы рабочих лучше их самих, а значит, и имеющей право принуждать их (в случае необходимости насильственно) к совершению (или несовершению) тех или иных действий "в интересах пролетариата", даже если сами ("несознательные") рабочие имеют несколько иные ("оппортунистические", "неполноценные", "извращенные") представления о своих собственных интересах (см. об этом, например: Rigby 1987).
В свое время К. Виттфогель справедливо подчеркивал, что критерии прогресса являются неизбежно субъективными, и стремился найти для них опору в общечеловеческих ценностях (Wittfogel 1957: 420). Возможность "консенсуального" использования критериев прогресса была недавно убедительно продемонстрирована Сандерсоном (Sanderson 1995: 336-357). В самом деле, предложенный им список критериев прогресса имеет шансы быть принятым большинством из ныне живущих людей: качество жизни (включая среднюю продолжительность жизни и показатели здоровья населения), характер труда и продолжительность рабочего дня, уровень социального и экономического равенства, демократии и свободы. Примечательно то, что направление рассуждений Сандерсона в основе своей (хотя и не на 100 %) сходно с нашим — он обращается к субъективным стремлениям людей, а не к объективным "научным истинам" (Sanderson 1995: 336-337).
Ниже мы проанализируем несколько подходов к изучению социальной эволюции. Конечно же, каждый из этих подходов представлен многими теориями. Однако, чтобы рассмотреть должным образом все эти теории, нам потребовалась бы отдельная (и достаточно толстая) монография. Поэтому мы ограничимся детальным рассмотрением лишь одной (самой влиятельной, на наш взгляд, по крайней мере в культурной антропологии) теории в рамках каждого из этих подходов.
Однолинейный подход
Линия — одномерна. Поэтому представляется вполне возможным говорить о линии/траектории эволюции (или линии развития) отдельного общества. Однако если мы говорим о линии эволюции значительного числа обществ, это будет оправдано только при соблюдении хотя бы одного из двух ниже названных условий.
1. О единой линии социальной эволюции можно говорить, если мы применяем один единственный критерий эволюции (которая в таком случае обычно отождествляется с развитием и/или прогрессом). Такой подход, очевидно, не выдерживает никакой серьезной критики, но иногда все-таки применяется. Например, наиболее распространенная в настоящее время однолинейная трехчленная схема, постулирующая существование универсальных стадий присваивающего, аграрного и индустриального хозяйства (к которым зачастую добавляется постиндустриальная стадия), кажется просто-напросто результатом последовательного применения одного-единственного технологического критерия. Другая однолинейная эволюционистская схема такого рода восходит к Гегелю и опирается на последовательное применение одного лишь «критерия свободы» (при этом, едва ли не при «орвелловском» понимании самой «свободы») — в России подобные попытки предпринимались еще в 60-е годы (Поршнев 1966: 190-201). Однако это отнюдь не единственная и не основная форма однолинейного эволюционизма, ибо в настоящее время практически никто не настаивает всерьез на возможности применения только одного эволюционного критерия. Поэтому ниже мы сосредоточимся на втором условии, которое могло бы оправдать однолинейный эволюционизм.
2. О единой линии социальной эволюции можно было бы вполне обоснованно говорить, если бы существовала полная, стопроцентная корреляция (или, другими словами, функциональная зависимость) между всеми основными одномерными показателями социальной эволюции. Даже если бы функциональная зависимость существовала между всеми показателями социальной эволюции за одним-единственным исключением, уже в этом случае, строго говоря, однолинейная схема искажала бы реальность, уже в этом случае нужно было бы говорить не о линии, а о плоскости эволюции. В реальности же ситуация несравненно более драматична — нет ни одной пары значимых эволюционных показателей, между которыми бы наблюдалась стопроцентная корреляция (функциональная зависимость). По крайней мере, более, чем за 100 лет поисков подобных корреляций, ни одной реальной функциональной зависимости между какими-либо социоэволюционными показателями обнаружено не было (обзор результатов подобных поисков см., например, в Levinson, Malone 1981; Ember, Levinson 1991). Уже из этого очевиден тот факт, что в реальности речь может идти не о линии и даже не о плоскости или трехмерном пространстве, но лишь о многомерном пространстве — поле социальной эволюции.
Остановимся все-таки несколько подробнее на той версии однолинейного эволюционизма, которая сохраняет свое определенное влияние вплоть до настоящего времени. Речь идет о марксистском однолинейном эволюционизме. Действительно, мысль о наличии стопроцентной корреляции (функциональной зависимости) между всеми основными эволюционными параметрами была сформулирована Марксом предельно четко:
«Возьмите определенную ступень развития производственных сил людей, и вы получите определенную форму обмена и потребления. Возьмите определенную ступень развития производства, обмена и потребления, и вы получите определенный общественный строй, определенную организацию семьи, сословий или классов, — словом, определенное гражданское общество. Возьмите определенное гражданское общество, и вы получите определенный политический строй» [Маркс 1846: 530].
В действительности, ни одному значению любого из вышеназванных параметров не соответствует однозначно значение никакого другого параметра. Можно взять определенную ступень развития производства, обмена и потребления и получить самые разные типы общественного строя, организации семьи, сословий или классов. Например, африканские охотники-собиратели хадза (или сан/бушмены Калахари), с одной стороны, и охотники-собиратели Центральной Австралии находятся на одной и той же "ступени развития производства, обмена и потребления", однако с точки зрения "организации семьи" они находятся едва ли ни на противоположных полюсах эволюционного спектра. Если семья хадза или бушменов характеризуется равноправным положением в ней женщины, то среди австралийских аборигенов положение женщин является исключительно неравноправным, при этом уровень этого неравноправия по многим параметрам превосходит та ковой у подавляющего большинства всех известных науке обществ (включая и сложные стратифицированные общества) — ср., например: Woodburn 1972; 1979; 1980; 1982; 1988a; b; Артемова 1987; 1989; 1991; 1993;Чудинова 1981;Whyte 1978: 49-94.
Или, обратимся, например, к средневековым обществам "Большой Ойкумены" (пояса развитых цивилизаций Евразии и Северной Африки). Они находились на принципиально одной ступени развития материальных производительных сил (как это было убедительно показано, например, Илюшечкиным [1986а: 66-75; 19866:58-71; 1990; 1997:гл.4 и др.]). Но в этих обществах мы находим достаточно разные формы связи специализированного ремесла с земледелием — от почти полного господства товарно-рыночных форм в некоторых западноевропейских обществах (Северная Италия, Южная Германия, Нидерланды и др.) до преобладания государственно-дистрибутивных форм (например, в городском ремесле фатимидского Египта) или общинно-реципрокных (в "сельском секторе" Северной Индии) — см., например: Семенова 1974: 71-81; Алаев 1981: 67-71. Это не значит, что развитие по двум данным параметрам никак между собой не связано. Определенная закономерность здесь безусловно присутствует, но проявляет она себя в виде именно не очень жесткой корреляции. Нетрудно показать, что то же самое относится и ко всем остальным постулированным Марксом функциональным зависимостям — во всех случаях речь может идти лишь о не очень жестких корреляциях. Соответственно любые однолинейные модели оказываются здесь в конечном счете абсолютно неприемлемыми.
Теперь рассмотрим одну из наиболее влиятельных на Западе однолинейных эволюционных схем — схему эволюции форм политической организации, разработанную Сервисом (Service 1962/1971; набросок этой схемы был впервые сделан Салинзом [Sahlins 1960: 37]): band — tribe —chiefdom — state. На первый взгляд может показаться, что одномерность схемы оправдана, ибо она рассматривает лишь одно эволюционное измерение. Однако на самом деле все оказывается значительно сложнее.
Начнем с того, что уже предлагалось заменить в данной схеме племя — суверенной деревенской общиной (Townsend 1985: 146; Carneiro 1987: 760).
Племя, таким образом, оказалось на гране того, чтобы быть выброшенным из вышеназванной эволюционной схемы. Однако вряд ли можно с таким предложением полностью согласиться. Действительно социально-политические формы, полностью идентичные описанным Сервисом существовали на Ближнем и Среднем Востоке в средние века и Новое время (и существуют сейчас): эти племенные системы охватывают обычно более одной общины и имеют тип политического лидерства, полностью идентичный тому, что описан Сервисом как типический для племени. Действительно, сравним:
«Лидерство в племенном обществе является личным... и осуществляется только для достижения конкретных целей; отсутствуют какие-либо политические должности, характеризующиеся реальной властью, а "вождь" здесь просто влиятельный человек, что-то вроде советчика. Внутриплеменная консолидация для совершения коллективного действия, таким образом, не совершается через аппарат управления... Племя... состоит из экономически самодостаточных резидентных групп, которые из-за отсутствия высшей власти берут на себя право себя защищать. Проступки против индивидов наказываются самой же корпоративной группой... Разногласия в племенном обществе имеют тенденцию генерировать между группами конфликты с применением насилия»8 (Service 1971 [1962]: 103);
и,например:
«Шейх не может предпринимать чего-либо от лица своих людей просто на основе своего формального положения; всякая акция, затрагивающая их интересы, должна быть конкретно с ними согласована» (Dresch 1984a: 39). «Власть, которую шейх может иметь над группами членов племен, не обеспечивается ему его формальным положением. Он должен постоянно участвовать в их делах, и участвовать успешно» [для того, чтобы свою власть сохранить] (Ibid.: 41; см. также: Chelhod 1970; 1979; 1985,39-54; Dostal 1974; 1985; 1990,47-58,175-223; Obermeyer 1982; Dresch 1984b; 1989; AbuGhanim 1985; 1990, 229-51 &с).
Мы имеем здесь дело с определенным типом политии, который не может быть идентифицирован ни с бэндом, ни с деревенской общиной (потому что подобные племена обычно охватывают более одной общины), ни с вождествами (потому что они имеют совершенно иной тип политического лидерства), ни, естественно, с государствами. Этот тип политии также совсем не просто вставить в рассматриваемую схему где-то между деревенской общиной и вождеством. Действительно, как было убедительно показано Карнейро (см., например: Carneiro 1970; 1981; 1987; 1991; а также его главу в данной монографии и т.д.), вождества обычно возникают в результате политической централизации нескольких общин без предшествующей этому стадии "племени". С другой стороны, на Ближнем и Среднем Востоке9 многие племена появились в результате политической децентрализации вождеств, которые предшествовали племенам во времени. Важно подчеркнуть, что во многих случаях подобного рода трансформацию никак нельзя отождествлять с "регрессом", "упадком" или "дегенерацией", так как в таких случаях мы наблюдаем, что политическая децентрализация сопровождается ростом, а не упадком общей культурной сложности (см.: Коротаев 1995в; 1996а; 19966; 1997; 1998; Korotayev 1995; 1996, а также его главу в данной монографии). Таким образом, во многих отношениях племенные системы ближневосточного типа оказываются скорее эволюционными альтернативами вождествам (а не их предшественниками).
Выше мы рассмотрели лишь один конкретный аспект проблемы. В более же общем виде можно констатировать следующее. Хотя схема Салинза/Сервиса обычно рассматривается в качестве модели только политической эволюции, а следовательно, обоснованно однолинейной (ибо она в таком случае учитывает лишь одно эволюционное измерение), на самом деле она построена на применении нескольких эволюционных критериев — уровня сложности, типа лидерства, уровня стратифицированности и т.д., и предполагает именно стопроцентную корреляцию (т.е. функциональную зависимость) между ними. Схема эта исходит из того, что рост политической сложности (как минимум вплоть до стадии аграрного государства) неминуемо сопровождается ростом неравенства, стратифицированности, социальной дистанции между правителями и управляемыми, авторитаризма и иерархичности политической системы, уменьшением уровня политического участия основной массы населения и т.п. Оба набора параметров кажутся связанными между собой достаточно тесно. Достаточно очевидно, что здесь наблюдается корреляция, причем достаточно жесткая. Но точно также очевидно, что это именно корреляция, но никак не функциональная зависимость. Конечно же, данной корреляции соответствует совершенно возможная линия социально-политической эволюции — от эгалитарного акефального бэнда через возглавляемую бигменом деревенскую общину с заметно более выраженным социально-экономическим неравенством и политической иерархичностью к "авторитарной" общине с сильной властью ее вождя (находимой, например, среди индейцев Северо-Западного Побережья [см., например, главу Карнейро в данной монографии, с. 89]), а затем через действительные вождества с еще более выраженными стратификацией и концентрацией политической власти в руках вождя к сложным вождествам, где политическое неравенство достигает качественно более высокого уровня, и, наконец, к аграрному государству, где все вышеназванные показатели показатели достигают своей кульминации (хотя можно, конечно, двигаться и дальше — до уровня "империи" [например: Adams 1975]). Вместе с тем исключительно важно подчеркнуть, что на каждом уровне растущей политической сложности данной линии можно найти очевидные эволюционные альтернативы.
Начнем с самого простого уровня. Действительно, акефальные эгалитарные бэнды встречаются среди большинства неспециализированных охотников-собирателей. Однако, как было показано Вудберном и Артемовой (Woodburn 1972; 1979; 1980; 1982; 1988a; b; Артемова 1987; 1989; 1991; 1993; Чудинова 1981), некоторые из подобных охотников-собирателей (а именно неэгалитарные, к которым относятся прежде всего австралийские аборигены) демонстрируют сущностно отличный тип социально-политической организации со значительно более структурированным политическим лидерством, сконцентрированным в руках относительно иерархически организованных старших мужчин, с явно выраженным неравенством как между мужчинами и женщинами, так и среди самих мужчин. Это различие представляется нам столь глубоким, что мы бы предложили обозначать эти два типа политий двумя разными терминами10 : сохранившийся термин бэнд использовать для обозначения эгалитарных политий, а неэгалитарные обозначать как локальные группы. Действительно, локальность неэгалитарных групп охотников-собирателей, концентрирующихся и структурирующихся вокруг тотемических центров, несравненно более выражена среди постоянно делящихся и сливающихся эгалитарных групп.
На следующем уровне политической сложности мы снова находим общины как с иерархической, так и неиерархической политической организацией. Можно вспомнить, например, хорошо известный контраст между индейцами калифорнийского Северо-Запада и Юго-Востока:
"Калифорнийские вожди находились как бы в центре экономической жизни общества, они осуществляли контроль над производством, распределением и обменом общественного продукта... Власть вождей и старейшин постепенно приобретала наследственный характер, что со временем стало типичным явлением для Калифорнии... Только у племен, населявших северо-запад Калифорнии, несмотря на сравнительно развитую и сложную материальную культуру, отсутствовали характерные для остальной Калифорнии четко выраженные социальные роли вождей. Вместе с тем только здесь было известно рабство... Население этого региона имело представление о личном богатстве... Социальный статус человека прямо зависел от количества находившихся в его распоряжении... материальных ценностей..." и т.д. (Кабо 1986: 180).
Здесь можно вспомнить и общины ифугао Филиппин (см., например: Мешков 1982) с характерным для них отсутствием авторитарного политического лидерства (особенно очевидным в сравнении, скажем с общинами Северо-Восточного Побережья), но с сопоставимым общим уровнем социокультурной сложности.
Таким образом, уже на уровне общин элементарной и средней сложности мы наблюдаем несколько типов альтернативных политических форм, каждая из которых должна бы обозначаться особым термином.
Возможные альтернативы вождествам в неолитической Юго-Запад-ной Азии, неиерархические системы сложных акефальных общин с выраженной автономией малосемейных домохозяйств недавно были проанализированы Березкиным, который обоснованно предлагает им апатани в качестве этнографической параллели (см. его главу данной монографии, а также Березкин 1995а; 19956 и др.). Французов находит еще более развитый пример подобного рода политий на юге Аравии в вади Хадрамаут 1 тыс. до н.э. (см. его главу данной монографии). В качестве другой очевидной альтернативы вождеству, как было показано выше, выступает племя.
Одному из нас уже приходилось ранее (Коротаев 1995а) приводить аргументы в пользу того, что существует очевидная альтернатива развитию жестких надобщинных политических структур (вождество — сложное вождество — государство) в виде развития структур внутриобщинных вместе с эволюцией мягких межобщинных систем, не отчуждающих общинного суверенитета (разнообразные конфедерации, амфиктионии и т.д.). Один из наиболее впечатляющих результатов развития в этом эволюционном направлении — греческие полисы (см. главу Берента в данной монографии, посвященную обоснованию безгосударственного характера классического греческого полиса), несколько из которых достигли общего уровня культурной сложности, сопоставимого не только с вождествами, но и с государствами.
Племенной и полисный эволюционные ряды образуют, по-видимому, разные эволюционные направления, характеризующиеся своими отличительными чертами: полисные формы предполагают власть "магистратов", выбираемых тем или иным путем на фиксированные промежутки времени и контролируемых народом (демосом) в условиях отсутствия регулярной бюрократии. В рамках племенных систем наблюдается вообще полное отсутствие каких-либо формальных должностей, носителям которых члены племени бы подчинялись только потому, что они являются носителями должностей определенного типа (а не в силу обладания ими определенными личными качествами), а поддержание порядка достигается через изощренную систему посредничества и поиска консенсуса.
Существует также значительное число и иных сложных безгосударственных политий [например, таковые у казаков Украины и Южной России (вплоть до конца XVII в.) или исландская полития «эпохи народоправства» (вплоть до середины XIII в.)], которые не имеют еще для своего обозначения каких-либо общих терминов (Чиркин 1955; Рознер 1970; Никитин 1987 и др.).
Еще одна очевидная альтернатива государству представлена сверхсложными (суперсложными) вождествами, созданными кочевниками Евразии — количество структурных уровней в подобных вождествах равно или превышает количество таковых для среднего государства, но они имеют качественно отличный от государства тип политической организации и политического лидерства; политические образования такого рода, по-видимому, никогда не создавались земледельцами (см.: Крадин 1992; 1996; Трепавлов 1995; Скрынникова 1997, а также главы Крадина, Марея, Скрынниковой и Трепавлова в данном томе).
Но и это не все. Существует и еще одна проблема со схемой Сервиса/Салинза. Она со всей очевидностью принадлежит к "до-мир-системной" эпохе, уверенно опираясь на представление о том, что одну отдельную политию вполне можно рассматривать как достаточную единицу социальной эволюции. Возможно, это было бы не так уж и важно, если бы Салинз и Сервис говорили о типологии политий, однако они говорят именно об "уровнях культурной интеграции"; и в подобном контексте мир-системное измерение оказывается абсолютно релевантным.
Суть проблемы здесь заключается в том, что тот же самый общий уровень культурной сложности может достигаться как через нарастающее усложнение одной политий (поглощающей соседние политий), так и через развитие политически не централизованной межполитийной сети. Эта альтернатива была замечена еще Валлерстайном, что нашло отражение в предложенной им дихотомии мир-экономика — мир-империя (см., например: Wallerstein 1974; 1979; 1987). Примечательно, что и сам Валлерстайн рассматривает два члена этой дихотомии именно как альтернативы, а не как стадии социальной эволюции. Как нетрудно догадаться, здесь мы в основе своей с Валлерстайном согласны. Тем не менее нам видится и некоторое неоправданное упрощение. В целом мы хотели бы подчеркнуть, что мы имеем дело с частным случаем значительно более широкого набора эволюционных альтернатив.
Развитие политически децентрализованной межполитийной сети стало эффективной альтернативой развитию монополитии еще до возникновения первых империй — здесь стоит авспомнить, скажем, межполитийную коммуникативную сеть гражданско-храмовых общин Месопотамии первой половины III тыс. до н.э., которая поддерживала уровень технологического развития, существенно более высокий, чем у синхронного ей политически централизованного Египетского государства. Примечательно и то, что межобщинные коммуникативные сети могли представлять эффективную альтернативу уже вождеству — например, социально-политическая система предгималайских апа-тани лучше всего может быть описана, видимо, именно как межобщинная коммуникативная сеть [между прочим, в свою очередь выступавшая как ядро в рамках более широкой коммуникативной сети, включавшей в себя соседние менее развитые политий (вождества и суверенные общины) — см., например: Fuerer-Haimendorf 1962].
Нам также представляется непродуктивным обозначать альтернативу мир-империи как мир-экономику. Такое обозначение недоучитывает политических, культурных и информационных измерений подобных систем.
Возьмем, например, классическую греческую межполисную систему. Уровень сложности многих греческих полисов был достаточно низким даже в сопоставлении со сложным вождеством. Однако они были частями значительно более обширной и несравненно более сложной общности, с многочисленными экономическими, политическими и культурными связями и общими политико-культурными нормами. Экономические связи, конечно же, играли какую-то роль в рамках данной системы. Но прочие связи были отнюдь не менее важны. Возьмем в качестве примера норму, согласно которой межполисные войны приостанавливались во время Олимпийских игр, что делало возможным безопасное движение людей, а значит, и гигантских количеств энергии, вещества и информации в пределах территории, на порядки превосходившей территорию среднего сложного вождества. Существование межполисной коммуникативной сети позволяло, например, индивиду, родившемуся в одном полисе, получить образование в другом полисе, а основать свою школу в третьем. Наличие подобной системы долгое время резко уменьшало деструктивность межполисных войн. Она была той основой, на базе которой оказывалось возможным предпринимать значимые межполисные коллективные действия (что оказалось жизненно важным, скажем, в эпоху греко-персидских войн). В результате, полис с уровнем сложности, не дотягивавшим до такового у составного вождества, оказывался частью системы, сложность которой оказывалась вполне сопоставимой с государством (и не только ранним).
В основном сказанное может быть отнесено и к межсоциумной коммуникативной сети средневековой Европы (чья суммарная сложность оказывалась сопоставимой с таковой у средней мир-империи). Примечательно, что в обоих случаях некоторые элементы соответствующих систем могут рассматриваться как составные части мир-экономик, более обширных, чем эти системы. В то же время не все составные части коммуникативных сетей были вполне интегрированы экономически. Из этого следует, что "мир-экономики" были не единственно возможным типом политически децентрализованных межсоциумных коммуникативных сетей. На самом деле, в обоих случаях мы имеем дело с политически децентрализованными цивилизациями, которые на протяжении большей части человеческой истории последних тысячелетий и составляли наиболее эффективную альтернативу мир-империям.
Необходимо обратить внимание и на то обстоятельство, что межсоциумные коммуникативные сети могли появляться и среди несравненно менее сложных обществ (Валлерстайн обозначил их как "мини-системы", однако так никогда и не занимался их изучением, что, впрочем, сделали другие сторонники мир-системного подхода [см., например: Chase-Dunn, Hall 1987 и др.]). Кажется возможным говорить уже, скажем, о коммуникативной сети, покрывавшей собою большую часть аборигенной Австралии. И снова мы здесь сталкиваемся со сходным феноменом — значительная степень культурной сложности (изощренные формы ритуалов, мифологии, искусств, танца и т.д., нередко пре восходящие по своей сложности таковые у ранних земледельцев) может быть объяснена тем фактом, что относительно простые локальные группы австралийцев были частями значительно более сложного целого — гигантской коммуникативной сети, охватывавшей, по-видимому, большую часть Австралийского континента (см., например: Бахта, Се-нюта 1972; Артемова 1987).
Формирование сложной межсоциумной коммуникативной сети на промежуточном уровне сложности наблюдалось, например, в предисламской Западной Аравии, где она развилась в значительной степени как эффективная альтернатива политическим системам аравийских царств и вождеств, разрушенных в ходе адаптации арабов к социально-экологическому кризису VI века, вызванного, по-видимому, пиком тектонической и вулканической активности, приведшему через достаточно сложную цепь причинно-следственных связей к серии «голодных лет», недородов (Korotayev, Klimenko, Proussakov 1999).
Эта довольно эффективная адаптация в основе своей заключалась в том, что большинство социально-политических систем Северной и Центральной Аравии вполне адекватно отреагировало на кризис отторжением надплеменных политических структур (т. е. большинства аравийских «царей» [muluk], политических лидеров вождеств и агентов их власти), которые начали представлять реальную угрозу для элементарного выживания рядовых членов аравийских племен. Действительно, трудно представить что-то более угрожающее и неприятное, чем появление в «голодный год» сборщиков податей, требующих уплаты «царских» налогов, когда имеющихся в вашем распоряжении продуктов питания откровенно недостаточно даже для того, чтобы прокормиться самим и накормить своих детей.
Однако арабы не просто разрушили большинство из этих жестких надобщинных политических структур, отчуждавших племенной суверенитет; они также выработали альтернативные «мягкие» структуры надплеменной культурно-политической интеграции, не представлявшие угрозы племенному суверенитету. Наиболее примечательным в данном случае представляется развитие системы священных анклавов и регулярных паломничеств к ним, сопровождавшихся ярмарками [mawasim].
В результате мы можем наблюдать здесь развитие в высшей степени эффективных межсоциумных коммуникативных сетей, из которых лучше всего известна коммуникативная сеть, тождественная западноаравийскому религиозно-политическому ареалу. По-видимому, он образовался в результате расширения зон влияния соответствующих святилищ и их интеграции в единый религиозно-политический ареал. Это, конечно, был прежде всего религиозный ареал, однако он имел и очевидные политические измерения. Именно во время паломничеств-ярмарок [mawasim] к упомянутым выше святилищам "традиционное племенное общество развивало разнообразные межплеменные связи, производило обмен религиозными и культурными идеями, как впрочем, и обычными товарами. Кроме того решались и разнообразные юридические проблемы (заключение перемирий, выплаты долгов, компенсаций за убийство, выкуп пленных, подыскивание клиентов, розыск пропавших без вести, решение вопросов наследования и т. д.). Этот обмен идеями и товарами, распространение общих юридических обычаев и религиозных культов среди заметного количества племен играли немаловажную роль в преодолении партикуляризма племенного сознания" (Simon 1989: 90; см. в особенности: Wellhausen 1897/1961: 88-91).
В результате мы можем наблюдать возникновение определенного политического ареала, более или менее коррелирующего с религиозным, ареала, где были общими не только религиозные, но и многие политико-культурные нормы, где люди последовательно избегали нападать на путешествующих в четыре «священных месяца» [ashur hurum] и рассматривали одни и те же части года в качестве «священных месяцев», где представители разных племен направлялись в одни и те же места для урегулирования межплеменных конфликтов, соблюдая при этом одни и те же правила посредничества, и т. д. Достаточно примечателен факт полного отсутствия серьезных межплеменных столкновений в «ареале четырех святилищ» (Маджанны, зу-'л-Маджаза, 'Указа и Мекки [к этому списку можно, конечно, отдельно от Мекки добавить 'Арафу и Мина; но они могут рассматриваться и как часть мекканского харома]) между завершением его формирования (т.е. войной Harb al-Fijar в конце VI в. н. э.) и началом столкновений с мусульманами. Фактически в этот период мы можем наблюдать в «ареале четырех святилищ» (в начале VII в. н.э. последний, по-видимому, охватывал не только Западную Аравию, но и заметную часть других аравийских регионов) культурно-политическую систему, которая в условиях отсутствия сколько-нибудь значимой политической централизации обеспечивала воспроизводство гигантской коммуникативной сети, в рамках которой осуществлялся очень интенсивный (и крайне продуктивный) обмен информацией, веществом и энергией.
Этот тип культурно-политической интеграции также игнорируется (без каких-либо разумных оснований) практически всеми теориями социальной эволюции и, конечно же, абсолютно не укладывается в схему band- tribe — chiefdom — state (со всеми ее модификациями). Действительно, все западноаравийские политии начала VII в. н.э., по-видимому, имели довольно-таки «примитивную» социально-политическую структуру (это относится даже к мекканской общине [см., например: Dostal 1991]) и, согласно подобным схемам, могут быть классифицированы как «автономные общины», «племена» или в крайнем случае «вождества» (хотя большинство аравийских вождеств распалось во второй половине VI в. н.э.). Тем не менее эти политии были частями значительно более широкой культурно-политической системы, которая по общему уровеню социальной сложности сопоставима со средним «ранним государством». Вместе с тем из-за того, что рассматриваемая система не была политически централизована, она не имеет шансов найти себе место в вышеупомянутых схемах (это относится в целом и к любым процессам социокультурного роста, не сопровождающимся ростом политической централизации или в особенности идущим вместе с политической децентрализацией).
Но и это еще не все. Необходимо отметить то обстоятельство, что многие политические образования, традиционно обозначаемые как «государства» и «империи», при более внимательном рассмотрении оказываются заметно более сложными системами, чем это предполагают подобные обозначения. Нам уже приходилось подробно рассматривать тот факт, что, например, так называемое Среднесабейское царство (Северо-Восточный Йемен, II-III вв. н.э.) в действительности представляло собой не просто государство, а скорее достаточно сложную социально-политическую систему, состоявшую из слабого государства в центре и сильных вождеств на периферии (а также, по-видимому, нескольких политически автономных гражданско-храмовых обществ в центре и нескольких собственно племен на дальней системной периферии). В раннеисламский период эта общность трансформировалась в систему, состоявшую из несколько более сильного государства в центре и собственно племен (а не вождеств) на периферии (Коротаев 1995в; 1996а; 19966; 1997; 1998 и в данном томе). Мы предлагаем использовать в таких случаях термин мультиполития, которую определяем как высокоинтегрированную систему, состоящую из политически субординированных разнородных политии (например, государства и вождеств или государства и племен).
Подобные политические системы необходимо отличать от политически децентрализованных межсоциумных коммуникативных сетей, состоящих из независимых, суверенных политии. Конечно же, нет никаких оснований рассматривать мультиполитию как локальный южноаравийский феномен. Внеюжноаравийские примеры мультиполитий северойеменского «зейдитского» типа («государство племена») можно легко найти на Ближнем и Среднем Востоке последних двух веков (см., например: Evans-Pritchard 1949; Eickelman 1981: 85-104; Tapper 1983; Al-Rasheed 1994 и т.д.); внейеменские примеры мультиполитий среднесабейского типа («государство вождества [ политически автономные общины]») можно без труда найти на том же Ближнем и Среднем Востоке (где заметное число так называемых племен представляло [и отчасти до сих пор представляет] собой скорее вождества в терминологии Сервиса [Service 1971 /1962/: 144; Johnson, Earle 1987: 238-43 &с]). За пределами Ближнего и Среднего Востока этот тип мультиполитий может быть найден, скажем, в Западной Африке (например, Бенин в некоторые периоды его истории — Бондаренко 1995а; 19956; 1995в; 1996; 1997; 1998; Bondarenko 1994; 1997; 1998; Bondarenko & Roese 1998 и, возможно, некоторые другие западноафриканские «королевства» [Service 1971/1962: 144]). Конечно, два вышеупомянутых типа мультиполитий не исчерпывают всего их многообразия. Например, применительно к более низким уровням сложности можно упомянуть, скажем, так называемое «Государство святых» (the "State of the Saints") Центрального Атласа, периферия которого состояла из племен, но центр его не может быть охарактеризован ни как государство, ни как вождество, ни как племя (Gellner 1969).
Однако мультиполитий легко могут быть найдены и на более высоких уровнях сложности — собственно говоря, большинство доиндустриальных империй при более внимательном анализе их реальной внутренней структуры оказываются именно мультиполитиями. Например, империи древней Индии оказывается предпочтительнее охарактеризовывать не через понятие «государство», а при помощи санскритского термина mandala, который является практически полным синонимом понятия мультиполития (см., например: Вигасин, Лелюхин 1987 и главу Лелюхина в этой монографии)11 . Ахеменидская империя также больше похожа на мультиполитию, состоящую из государства в центре и разного рода политии на периферии (греческих полисов Малой Азии, гражданско-храмовых общин Месопотамии и Палестины и т.д.). В качестве мультиполитий вполне могут быть охарактеризованы и Египетская империя Нового царства (состоявшая из достаточно зрелого госу дарства в долине Нила и множества разнородных политий — ранних государств, вождеств, племен, политически автономных общин — в азиатской части империи и на африканской периферии), Ассирийская империя, Римская империя эпохи Принципата, средневековая Римская империя германской нации, Халифаты Омеййадов и в особенности Аб-басидов, Восточно-чжоуский Китай, практически все империи, созданные кочевниками, и в целом, как уже говорилось, подавляющее большинство доиндустриальных империй. Впрочем возможно найти примеры и аграрных монополитийных империй — например, недолговечную империю Цинь в Китае или Римскую империю эпохи Домината (но не Принципата!). Однако выглядят они, скорее, исключениями из общего правила. В этом смысле в обычных терминах именно мульти-полития оказывается соответствующей «магистральной» линии эволюции крупных политических образований доиндустриальной эпохи, монополитийные же империи-государства выглядят здесь как достаточно редкая эволюционная альтернатива. Монополитийные империи-государства начинают преобладать среди крупных политических образований только в Новое время и в непосредственной связи с процессами модернизации.
В целом в центре подобных мультиполитий обычно оказываются государства. Но, похоже, это наблюдается далеко не всегда. Например, Скрынникова предполагает, что даже в центре Монгольской империи функционировало не государство, а суперсложное вождество, в то время как государственные структуры здесь концентрировались на периферии мультиполитий (см. ее главу в данной монографии). И это, по-видимому, является не исключением, а скорее типичным для большинства империй, созданных кочевниками (см. главу Крадина в данной монографии). Однако государство не всегда обнаруживается и в центре других «империй». Раннеисламская полития, конечно же, не может рассматриваться в качестве империи, созданной кочевниками (лидеры ее основателей происходили из оседлого населения Мекки и Йасриба, а йеменские земледельцы составляли не менее важную часть исламских армий, чем бедуины Центральной Аравии [см., например: al-Mad'aj 1988]); тем не менее, хотя аравийцы и унаследовали некоторые государственные структуры на периферии своей мультиполитий, центр этой «империи» вплоть до 60-х годов VI в. можно лишь с большой натяжкой охарактеризовать как действительное государство — полития эта, скорее, сочетала черты теократического вождества и гражданской общины и, видимо, должна бы иметь свое собственное обозначение (например, арабское умма). А для того, чтобы трансформировать центр этой раннеисламской «империи» в действительное государство, потребовались колоссальные усилия со стороны Омеййадов и их сторонников. Усилия эти к тому же встретили яростное сопротивление со стороны значительной части уммы, так что для достижения указанной трансформации помимо всего прочего потребовались две кровавые гражданские войны (т. е., по сути дела, настоящая политическая революция). Наконец, нельзя не вспомнить и позднюю Римскую республику, которая также, по-видимому, представляла собой мультиполитию, где государственные структуры развивались на периферии системы, в то время как центр ее представлял собой по-прежнему civitas (т.е. безгосударственную политическую форму полисного типа [см., например: Штаерман 1989]).
В любом случае достаточно очевидно, что разные уровни политической централизации могут соответствовать одному и тому же уровню общей социокультурной сложности, в то время как несколько разных типов политий могут соответствовать одному и тому же уровню политической сложности. Таким образом, оказывается невозможным выстроить в одну линию даже одни лишь формы политической организации. А если мы примем в расчет и другие параметры социальной эволюции, то получим еще менее линейную картину. Например, Ковалевски (см. его главу в данной монографии) обращает внимание на существование в доколумбовой Мезоамерике двух качественно разных типов социально-политических систем, один из которых характеризовался «сетевой», а другой — «корпоративной» стратегиями. При этом общества как одного, так и другого типа могли характеризоваться самыми разными уровнями культурной сложности, поэтому принципиально невозможно рассматривать указанные типы обществ в качестве эволюционных стадий. Ковалевски, таким образом, добавляет еще одно измерение альтернативности, которое, безусловно, должно учитываться в дальнейшем при разработке адекватных социоэволюционных моделей.
Двухлинейные подходы
Билинейные подходы опираются на давнюю европейскую традицию противопоставления Запада и Востока, идущую от Ф.Бернье и Ш.Монтескье. Приверженцами многолинейности выступили некоторые из сторонников теории «азиатского способа производства». Источниками для их интерпретаций социальной эволюции послужили две идеи К.Маркса и Ф.Энгельса. Первая идея была сформулирована в «Grundrisse» (1857-1861), в том месте рукописи, где К.Маркс анализирует формы, предшествующие капитализму. Там он выделяет три формы Gemeinwesen: азиатскую, античную и германскую, которые можно ин терпретировать как самостоятельные формы перехода к государственности. Вторая идея была сформулирована Ф. Энгельсом в «Анти-Дюринге» (1878), где он, согласуясь с замечаниями Маркса, высказал предположение о двух путях становления государства (восточном и античном). Последнюю версию поддержал Г.В. Плеханов, который рассматривал данные способы производства «как два сосуществующих типа» (1957[1908]:165).
Обе идеи впоследствии были развиты марксистскими исследователями. Во время первой дискуссии об азиатском способе производства (1925-1931) идею о том, что азиатский способ производства на Востоке развивался параллельно античному и феодальному на Западе, разрабатывал Л.И.Мадьяр (1928). Идею поддержали С.А. Дамин (1928), М.Д. Кокин, Г.К. Папаян, А.И. Ломакин (Дискуссия 1930: 122-123). Однако в атмосфере идеологического давления и политических угроз они были вынуждены сначала ограничить существование азиатского способа производства древностью (Дискуссия 1931: 52, 123-124,153), а после ленинградской дискуссии и вовсе отказаться от разработки этой концепции.
Проблема альтернативного, параллельного развития Запада и Востока вновь оказалась в центре внимания после возобновления дискуссии об азиатском способе производства в 1957 г. В тот год были опубликованы сразу несколько работ (инициаторами второго этапа дискуссии выступили Л.С. Васильев, Э. Вельскопф, Ю.И. Семенов и К. Виттфогель; вклад последнего в развитие теории азиатского способа производства в нашей историографии упорно замалчивался или искажался), в которых в той или иной форме высказывалось недовольство однолинейной стадиалистской схемой и предлагались попытки разрешения кризисной ситуации. В двух публикациях из четырех говорилось о параллельном развитии обществ Азии и Европы (Welskopf 1957; Wittfogel 1957).
Возможно, наиболее авторитетно теория билинейной эволюции была сформулирована в «Восточной деспотии» К.Виттфогеля. Правда, необходимо оговориться, что в теоретическом плане Виттфогель считал себя сторонником теории многолинейной эволюции Дж.Стюарда (Wittfogel 1957: 413), но марксистские корни билинейности его концепции очевидны. Весь пафос сравнительного анализа Виттфогеля направлен на сопоставление двух и только двух типов обществ (Wittfogel 1957: 17-20, 227) — негидротехнического, т.е. многоцентрового демократического общества западного типа, основанного на частной собственности, и гидротехнического, т.е. одноцентрового агробюрократического тоталитаристского общества восточного типа со слабым развитием частной собственности.
Англоязычная версия виттфогелевского термина hidraulic society неоднократно подвергалась острой критике из-за чрезмерных технических коннотаций из области гидравлики. Однако в немецком языке термин Wasserbau Gesellschaft звучит не более гидравлично, чем термин «ирригационное общество», а по объему это понятие гораздо шире. Как объяснял К.Виттфогель, термин гидротехническое общество предпочтительнее синонимичного термина «восточное», потому что лучше выражает специфику этого общества — он одновременно подчеркивает выдающуюся роль деспотических методов государственного управления (Wittfogel 1957: 12) и решающее значение крупномасштабных гидротехнических работ (там же: 22) при «первичном», т.е. независимом возникновении агробюрократического общества (там же: 420).
Необходимо отметить, что согласно Виттфогелю, возможность гидротехнического пути развития еще не означает его неизбежность. Изначально существует альтернатива, и выбор в конкретных исторических условиях совершает само общество. Но если аграрное общество совершило выбор в пользу крупномасштабных гидротехнических работ, то формирование деспотического государства было неизбежным (Wittfogel 1957: 12, 17-19,420).
Впоследствии идеи двухлинейной эволюции в рамках творческой марксистской теории были развиты другими авторами, которые также писали о принципиальном отличии путей эволюции Запада, где сложился динамический баланс между государством и различными классами, и Востоком, где господствующая элита являлась одновременно и государством, и правящим классом (Седов 1967; Чешков 1967; Jaksic 1991 и др.).
В последние два десятилетия XX века эта идея наиболее обстоятельно была развита в работах Л.С. Васильева (1982;1983;1988;1989;1993 и др.), который привнес в данную схему ряд положений, разработанных в неоэволюционистской антропологии. Васильев полагает, что генеральной линией социальной эволюции является процесс постепенной трансформации автономных общинных образований в вождества, а из них — в ранние и затем — в зрелые государства. Этот процесс происходил на основе монополизации доступа к управлению и контролю над производством и перераспределением. Так как власть и место в иерархии определяют статус индивида, частная собственность имеет подчиненный характер. В обществе нет граждан, есть подданные. В результате складывался государственный (Л.С.Васильев считает, что этот термин более удачен, чем термин азиатский в силу его универсальности) способ производства.
Европейская структура (частнособственнический способ производства) представляет собой «мутацию», прообраз которой восходит к финикийской модели. Однако наиболее последовательно данный способ производства реализовался в античной Греции и Риме. Для этой модели общества характерны товарные отношения, частная собственность, политическое равноправие граждан полиса. Право было ориентировано на соблюдение законности и защиту интересов граждан. Это, в конечном счете, обусловило динамику развития Западной Европы и привело в новое время к формированию правового государства и гражданского общества.
Выводы Л.С.Васильева были поддержаны исследователями более молодого поколения (Киселев 1985; Павленко 1989; 1991; Крадин 1991 и др.). Схожие идеи высказывались в западной антропологии (Southall 1991; Morrison 1994).
Другие исследователи конструировали более сложные модели. Они рассматривали азиатскую, античную и германскую общины и как последовательно более развитые формы Gemeinwesen, и как самостоятельные линии исторического развития. В таком ключе, например, написаны работы Ф.Тёкеи (1975). А.И.Фурсов (1989; 1995) считает, что марксовы Gemeinwesen являются стадиями последовательного освобождения субъектных качеств человека от его коллективного начала; всемирно-исторический процесс развертывается в двух плоскостях: тупиковой азиатской, где система доминирует над индивидом, и прогрессивной западной, где в каждой более высокой социальной форме осуществляется последовательная эмансипация субъекта.
По М.Годелье, азиатская и античная формы являются тупиковыми, так как ведут соответственно только к азиатскому и к рабовладельческому способам производства. Лишь германская форма Gemeinwesen приводит к феодализму, а от него — к капиталистическому обществу. Даже Япония импортировала капитализм с Запада (Godelier 1969). Но по Мелотти, путей эволюции уже пять. Он дополняет Gemeinwesen славянской общиной, которой соответствует «русский» путь к бюрократическому социализму, а также особый тип архаической Gemeinwesen, предшествовавший японскому феодализму и капитализму (Melotti 1977).
Двухлинейный взгляд на всемирную историю был дополнен концепциями самостоятельного варианта эволюции кочевников-скотоводов. В качестве критериев предлагались: 1) специфические черты хозяйства и культуры номадов (Марков 1967; Андрианов, Марков 1990; Масанов 1991; 1995); 2) наличие резкой социальной дифференциации (классов) и частной собственности на скот (основное средство производства) при отсутствие институтов формального управления (государства) скотоводами (Bonte 1981; WO)12; 3) завоевательный характер «кочевых империй», который являлся базисом особого ксенократического или экзополитарного способа производства (Крадин 1992; 1994; 1995; 1996; Kradin 1993; 1995).
В конечном счете двухлинейная модель и ее производные сыграли положительную роль в критике однолинейных подходов, выявлении общих и специфических черт в социальной эволюции. Модель «азиатского способа производства» позволила лучше понять отличие Востока от Запада, специфику так называемых «социалистических» обществ древности — средневековья и Новейшего времени. В то же время постепенно выяснились и ее пределы. Поскольку идеально-типическая модель азиатского способа производства была призвана выявить и объяснить специфику всех неевропейских обществ в контексте противопоставления Западу (хотя, скажем, индусское общество в Азии не более похоже на китайское, чем последнее — на европейское), выявились ее эвристические слабости при анализе пространственно-временных вариаций политических структур восточных обществ. Расчищая путь к многолинейности, теория азиатского способа производства со временем сама оказалась помехой на пути изучения многообразия эволюции неевропейских обществ.
Многолинейные подходы
На самом деле, в последние годы оказывается все более и более трудным отыскать таких исследователей социальной эволюции, которые открыто называли бы себя "однолинейными эволюционистами". Большинство скорее отождествляет себя с разного рода многолинейными моделями. Однако то, что преподносится как "многолинейный подход", на поверку зачастую оказывается однолинейной по сути своей схемой. Наиболее влиятельной версией подобного "псевдомноголинейного" подхода нужно признать таковую в формулировке раннего Салинза (Sahlins 1960).
Хорошо известно, что он предложил рассматривать многолинейную эволюцию как результат взаимодействия ее "общей" и "специфической" компонент. При этом "специфическая эволюция" определяется как "историческое развитие конкретных культурных форм..., филогенетическая трансформация через посредство адаптации"; в то же самое время "общая" эволюция понимается как "прогрессия классов форм, или, другими словами, как движение культуры по стадиям универсального прогресса" (Sahlins 1960: 43). "В целом общая культурная эволюция представляет собой движение от меньшей к большей трансформации энергии, от более низких к более высоким уровням интеграции и от меньшей к большей общей адаптированности" (Sahlins 1960: 38).
Действительно, на первый взгляд этот подход выглядит истинно многолинейным — он реально предполагает существование неограниченного числа потенциальных эволюционных траекторий (а следовательно, в некотором смысле, эволюционных альтернатив) в результате взаимодействия между этими двумя компонентами. Вместе с тем мы полагаем, что подобный подход не дает действительно адекватной основы для изучения альтернатив социальной эволюции.
Подход Салинза уже подвергался разносторонней критике (см., например: Harris 1968; Ingold 1986: 18-21; Sanderson 1990: 132-133 &с). Однако мы полагаем, что наша критика этого подхода является заметно более полной; она включает в себя и некоторые из критических замечаний вышеназванных авторов.
Начнем не с самого важного из этих критических замечаний. Уже сами по себе понятия "общей" и "специфической" эволюции безусловно вводят в заблуждение, в особенности если учесть тот факт, что Салинз применяет их к эволюции вообще — не только к социальной, но и к биологической. В самом деле, "диверсификация происходит на всех уровнях практически всегда, в то время как движение "вверх" наблюдается крайне редко" (Ingold 1986: 19 со ссылкой на: Stebbins 1969: 120). Таким образом, то, что Салинз называет "специфической эволюцией", является на самом деле как раз общей (general) в общепринятом смысле этого прилагательного, в то время как так называемая общая эволюция является в высшей степени специфическим видом эволюционного движения.
Однако по-настоящему важно другое обстоятельство. Салинз совершает обе основных ошибки однолинейных эволюционистов: 1) он рассматривает в качестве единой переменной несколько слабо коррелирующих между собой параметров и 2) он настаивает на существовании полной корреляции (т.е. функциональной зависимости) между всеми основными интересующими его группами параметров.
Начнем с "движения от более низких к более высоким уровням интеграции". Посмотрим, как Салинз описывает эти уровни применительно к социальной эволюции:
"На первобытном уровне мы наблюдаем наименее продвинутую форму: несегментированные (ни на что, кроме семей) акефальные — и, как правило, доземледельческие — бэнды. На более высоком уровне развития находятся земледельческие и скотоводческие племена, сегментированные на кланы, линиджи и т.п., но не имеющее явно выраженных вождей. На уровне, более высоком, чем эгалитарные племена, находятся вождества со свойственными им более высокой продуктивностью, внутренней дифференциацией статусов и развитым институтом вождя..." и т.д. вплоть до государства (Sahlins I960: 37).
Таким образом, здесь мы находим вместо описания различных уровней интеграции хорошо известную схему политической эволюции Сервиса (Service 1971/1962). Конечно же, мы не хотим сказать, что Салинз позаимствовал эту схему у Сервиса. Скорее, Сервис взял вышепроци-тированный набросок Салинза и разработал на его основе свою схему, сохранив все ошибки, встроенные в изначальный набросок. Главная же ошибка заключается здесь в том, что уровни культурной интеграции отождествляются с конкретными социополитическими формами. Этим, по сути дела, подразумевается, что только одна социополитическая форма может соответствовать каждому данному уровню интеграции. В результате Салинз упускает из поля своего зрения наиболее интересные эволюционные альтернативы. Данному обстоятельству трудно найти обоснование даже в рамках подхода Салинза. В рамках любой логики, скажем, трудно понять, почему качественно новые формы могут появляться только в ходе процессов общей эволюции. Не понятно, почему новые формы не могут появляться и в ходе процессов специфической эволюции, т.е. "филогенетических трансформаций через адаптацию". В любом случае очевидно, что все критические замечания, сделанные выше в адрес Сервиса, применимы и к Салинзу: нет никаких оснований говорить о единой линии движения от «низших» к «высшим» формам интеграции. В процессе этого перехода наблюдается большое количество значимых эволюционных альтернатив (см. раздел 1 данной главы).
Рассмотрим теперь «энергетический» параметр общей эволюции по Салинзу. Салинз утверждает:
«...Прогресс — это рост общего количества трансформируемой энергии, используемой для создания и поддержания культурной организации. Культура ставит энергию под контроль и направляет ее в нужном направлении; она извлекает энергию из природы и трансформирует ее в людей, материальные блага и работу, в политические системы и идеи, в социальные обычаи и в следование им. Общее количество энергии, трансформированной из свободного в культурное состояние, с учетом, возможно, той степени, насколько много ее теряется при этой трансформации (энтропийные потери), может рассматриваться как критерий общего уровня развития культуры, мера ее достижений» (Sahlins 1960: 35).
Сразу же отметим оговорку — «с учетом, возможно, той степени, насколько много ее теряется при этой трансформации (энтропийные потери)». Оговорка эта заставляет предполагать, что и сам Салинз предполагает, что речь у него реально идет о двух переменных, а не об од ной. Действительно, достаточно очевидно, что в подобном контексте имеет значение не только общее количество энергии, «используемой для создания и поддержания культурной организации», но и то, насколько эффективно эта энергия используется. По всей видимости, Салинз решил, что эти две переменные могут рассматриваться в качестве одной просто потому, что он повторил ошибку своего учителя, Лесли Уайта, верившего, что рост по обоим этим параметрам идет одновременно (см., например: White 1949: гл. XIII). Однако конкретные данные показывают, что корреляция между этими двумя переменными значительно более сложна, при том что большую часть человеческой истории она была просто отрицательной: собиратель, расходуя 1 джоуль энергии, получал несколько сот джоулей в собранных им продуктах питания; в экстенсивном земледелии этот показатель падает ниже 100, а затем опускается до 10 в интенсивном доиндустриальном земледелии. В интенсивном индустриальном земледелии цифра эта уже стремится к 1 джоулю (на джоуль энергозатрат), а в наиболее интенсивном (парниковом) индустриальном земледелии она иногда падает до 0,001 (Люри 1994: 14-30). Однако просто констатировать факт сильной негативной корреляции между этими двумя параметрами тоже было бы чрезмерным упрощением. Да, в главной отрасли доиндустриальной аграрной экономики наблюдалась именно такая корреляция, однако уже в доиндустриальном несельскохозяйственном производстве мы зачастую наблюдаем важные случаи роста эффективности использования энергии (связанные, в частности, с усовершенствованием печей, мельниц, трансмиссий и т.д. [см., например: White 1962]).
Таким образом, то, что представляется Салинзом в качестве единого параметра, на самом деле является множеством слабо скоррелированных между собой переменных. В любом случае уже в рамках первого салинзова параметра «общей» эволюции мы можем наблюдать вполне реальную и важную (в особенности для современной мир-системы) «общеэволюционную» альтернативу: будет ли рост социокультурной сложности идти за счет роста общего потребления энергии или за счет роста эффективности ее использования. В целом же достаточно понятно, что уже с этими двумя переменными мы имеем, по сути дела, неограниченное количество «общеэволюционных» альтернатив (быстрый рост по обоим параметрам; рост эффективности использования энергии, более быстрый, чем скорость снижения ее потребления; противоположное сочетание и т.д.), а следовательно, и неограниченное количество «общеэволюционных» альтернатив.
Наконец, рассмотрим последний параметр общей эволюции по Салинзу — «движение от меньшей к большей общей адаптированности". Салинз утверждает:
«Общий прогресс может также рассматриваться как рост "общей адаптивности" . Существует тенденция к доминированию более высоких культурных форм над более низкими, к вытеснению первыми вторых; степень же доминирования пропорциональна уровню прогресса. Таким образом, культура современных наций имеет тенденцию распространяться по всему Земному шару, на наших собственных глазах вытесняя, трансформируя и ликвидируя культуры, представляющие эволюционные стадии многотысячелетней древности; в то время как архаическая цивилизация, теперь также отступающая под натиском современной культуры, даже во времена своего расцвета смогла распространиться лишь на отдельные регионы отдельных континентов. Эта способность более высоких культурных форм доминировать над более низкими объясняется способностью первых эффективнее использовать широкий спектр энергетических ресурсов. Высшие формы относительно «свободнее от контроля окружающей среды», т.е. они способны адаптироваться к большему числу типов окружающей среды, чем более низкие формы» (Sahlins 1960:37).
И вновь не трудно заметить, что Салинз делает здесь свою типичную ошибку, рассматривая в качестве одной переменной группу слабо (и иногда негативно) связанных параметров. Эта группа включает в первую очередь субгруппу параметров адаптации к природным условиям и субгруппу адаптации к внешним социальным условиям. Салинз, видимо, полагает, что формы культуры, лучше приспособленные к условиям природной среды («более эффективно использующие больший набор энергетических ресурсов»), являются также лучше адаптированными и к внешним социальным условиям; (они «доминируют над низшими формами и вытесняют их»). Но это не так. Нередко именно те формы культуры, которые хуже приспособлены к природной среде, доминируют над формами, лучше приспособленными (к природной среде), и вытесняют их. Классический пример в этом отношении представляет история взаимоотношений динка и нуэров (нилотских народов южного Судана).
Как было показано Келли (Kelly 1985), изначально довольно маленькая группа «протонуэров» выделилась из культурно близких «протодинка» около 300-400 лет назад. Важнейшей чертой этой дифференциации было, видимо, то обстоятельство, что нуэры перестали забивать на мясо своих бычков. В результате культура нуэров оказалась значительно хуже адаптированной к природной среде, чем культура динка. Нуэры стали расходовать свои энергетические ресурсы значительно менее эффективно, чем динка, чьи стада состояли прежде всего из коров. Нуэры расходовали гигантские (для этих условий) объемы энергии (содержащейся прежде всего в кормах) на поддержание своих огромных бычьих стад, не получая взамен адек ватного количества хозяйственно полезной энергии. В результате, хотя нуэры и занимали в целом экологически заметно более благоприятные территории, чем динка, их экономика обеспечивала существование на этих территориях заметно менее плотного (по сравнению с динка) населения. Однако та самая инновация, которая заметно снизила адаптированность нуэров к их природной среде, значимо повысила их приспособленность к внешней социальной среде. Хотя бычьи стада нуэров и были бессмысленны с хозяйственно-экологической точки зрения, огромное число этих быков дало в руки нуэров довольно эффективное «средство социального обращения», позволявшее через институциализированную систему ритуальных дарений, обменов и выплат поддерживать широкую сеть альянсов. Эта сеть в свою очередь позволяла нуэрам эффективно мобилизовать значительный военный потенциал, направлявшийся, как правило, именно против экологически более адаптированных динка, не обладавших сопоставимо эффективной системой мобилизации военного потенциала. В результате именно экологически хуже адаптированные культурные формы нуэров стали доминировать над экологически более адаптированными культурными формами динка и вытеснять их. Более того, нуэры увеличили свою адаптированность к внешней социальной среде именно благодаря снижению адаптированности к среде естественной.
Конечно же, нетрудно показать, что в свою очередь «естественная» и «социальная» адаптивности — это не одномерные переменные, а, скорее, группы слабо скоррелированных параметров. Но общая картина и так к настоящему времени должна быть вполне ясна. Нет никаких оснований говорить о некоей единой линии «общей эволюции». Если мы даже останавливаемся только на анализе того, что Салинз представляет как одномерные параметры общей эволюции, то при более внимательном рассмотрении обнаруживаем, что каждый из этих псевдоодномерных параметров оказывается, на самом деле, группой слабо скоррелированных переменных, т.е. уже на этом уровне анализа мы лишаемся каких-либо оснований для того, чтобы соглашаться с представлением о единой «линии общей эволюции», уже на этом уровне анализа возникает необходимость перехода от исследования линии общей эволюции к исследованию «общеэволюционного поля», подразумевающего существование неограниченного числа эволюционных альтернатив.
Кроме того, конечно же, все салинзовы параметры общей эволюции к тому же еще и слабо коррелируют между собой, что увеличивает нелинейность общей эволюции в еще большей степени.
Рассмотрим второй и третий параметры общей эволюции: «переход от ... более низких к более высоким формам интеграции [2]», и «от меньшей к большей общей адаптивности [3]». Салинз полагает, что более высокие (т.е. в контексте рассматриваемой работы более политически централизованные) «культурные формы» всегда «доминируют над низшими формами и вытесняют их». То, что в истории не всегда происходит именно так, было замечено и объяснено уже за три с лишним столетия до выхода в свет работы Салинза эфиопским монахом Бахрейем (1593 [1976])13 .
Бахрей попытался объяснить, почему высоко политически централизованное эфиопское государство постоянно терпело военные поражения от менее цивилизованных и менее политически централизованных племен галла («Каким образом нас побеждают галла, хотя мы многочисленны и у нас много оружия?» — Бахрей 1976 [1593]: 140). Ответ, предлагаемый Бахрейем, весьма интересен и убедителен: именно потому, что эфиопское общество более развито и дифференцированно, оно и терпит постоянные поражения в борьбе с менее развитыми галла. Сам фактор большей внутренней социальной и культурной дифференциации оказывается в данном случае источником военной слабости.
«Каким образом нас побеждают галла, хотя мы многочисленны и у нас много оружия?... Это из-за разделения нашего народа на десять разрядов, из них девять не принимают участия в войне и не стыдятся своего страха. А воюет (только) десятый разряд и сражается так, как возможно. И если нас много, то мало тех, которые способны воевать, а много тех, которые не участвуют в войне. Один разряд из них — это монахи, которым нет числа. Есть монахи с детства, которых склонили на свою сторону монахи во время учения, подобно автору этой истории и ему подобным. А есть монахи от страха перед войной. Другой разряд называют дабтара14 . Они изучают книги и все дела священников. Они хлопают руками и двигают ногами (во время богослужения) и не стыдятся своего страха. Они берут за образец левитов и священников, детей Аарона. Третий разряд называется жан хацана15 и жан маасаре16 . Они охраняют право и (этим) оберегаются от участия в войне. Четвертый разряд дагафоч — сопроводители знатных женщин и вазаро. (Это) сильные мужи и крепкие молодые люди. Они не участвуют в войне и говорят: "Мы охрана женщин". Пятый разряд называется шемагле17 , господа и землевладельцы. Они делят свои земли между тружениками и командуют ими, а сами не стыдятся своего страха. Шестой разряд — землепашцы. Они проводят время на полях и не думают воевать. Седьмой разряд — это те, которые получают выгоду от торговли и извлекают пользу для самих себя. Восьмой разряд — это ремесленники, такие, как кузнецы, писцы, портные и плотники и им подобные. Они не умеют воевать. Девятый разряд — это певцы, барабанщики (играющие на маленьких барабанах18 ), барабанщики и арфисты, для которых работа — попрошайничество19 . Они благословляют того, кто им подает, воздают пустую славу и бесполезные восхваления. И когда они проклинают тех, кто не платит, их не считают виноватыми, ибо они говорят: "Это наш обычай". Десятый разряд — это те, кто берет копье и щит и может воевать. Они следуют за негусом поспешно, чтобы напасть (на врага). Из-за их малочисленности наша страна опустошается. У галла нет этих девяти разрядов, которые мы упоминали. Все они способны воевать, от мала до велика. И поэтому они уничтожают и убивают нас» (Бахрей 1976 [1593]: 140-141).
Есть все основания полагать, что случаи, когда менее развитые общества оказываются в военном отношении сильнее более развитых, не представляют собой «ошибок истории». Одна из общих объяснительных моделей для подобного варианта исторического развития сводится к следующему. Политически централизованные системы часто достигают военного превосходства путем развития специализированных военных подсистем — относительно малых, но хорошо обученных и вооруженных профессиональных армий. Однако необходимым условием для сохранения такого превосходства обычно является наличие монополии на какие-либо эффективные виды вооружения (боевые колесницы, оружие из бронзы и т.п.). Если же происходит революция в производстве средств насилия, в результате которой монополия на них не может более эффективно поддерживаться (например, в случае появления железного оружия), менее политически централизованные общества с большей долей военно-активного населения получают значительное преимущество и могут стать сильнее в военном отношении политически централизованных обществ. Таким, вероятно, был ход исторического развития во многих частях Ойкумены Старого Света в раннем железном веке или поздней античности. В дополнение к этому — менее политически централизованные общества с большей долей военно-активного населения могли значительно увеличивать свою военную эффективность без заметного увеличения своей политической централизации или внутренней дифференциации, например путем номадиза-ции, роста специализации на скотоводстве, поскольку сам каждодневный труд скотовода и характер его социализации производят высоко боеспособного воина. Кочевое скотоводство с широким использованием пастухов-всадников могло значительно увеличивать военный потенциал таких обществ и без дополнительной политической централизации и функциональной дифференциации.
Теперь рассмотрим корреляцию между первым и вторым параметрами общей эволюции Салинза — переходом от меньшего к большему уровню трансформации энергии [1] и движением от более низких к более высоким уровням интеграции [2]. Выше мы отмечали, что Салинз отождествляет «переход от...низших уровней интеграции к высшим» с движением по линии band — tribe — chiefdom — state, т.е. с политической централизацией. На первый взгляд корреляция здесь выглядит довольно сильной:
более политически централизованные общества имеют тенденцию контролировать большие потоки энергии, чем менее централизованные, т.е. государства контролируют больше энергии, чем вождества, и т.д. Однако все не так просто, как кажется. Да, политическая централизация обычно ведет к увеличению объемов энергии, «трансформируемых» соответствующими общественными системами. Но эти объемы энергии могли расти и без увеличения политической интеграции, а политически нецентрализованные общества способны контролировать объемы энергии, сравнимые с объемами, контролируемыми политически централизованными системами. Примерами могут служить средневековая швейцарская конфедерация гражданских общин и дагестанские «вольные общества» начала Нового времени, которые контролировали объемы энергии, сравнимые с объемами, «трансформировавшимися» ранними государствами средней величины; объемы же энергии, контролировавшиеся совокупностью экономически интегрированных греческих безгосударственных полисов или римского догосударственного civitas, превышали таковые у обычных ранних государств.
В дополнение совокупность параметров трансформации энергии состоит, как мы помним, из двух подгрупп, поскольку параметры эффективности трансформации энергии оказываются отличными от группы параметров, характеризующих объемы трансформируемой энергии. Как мы помним, эффективность трансформации энергии коррелирует негативно (и сильно) с интенсификацией земледелия. В то же время хорошо известно, что интенсификация земледелия имеет сильную положительную корреляцию с политической централизацией (см., например: Коротаев 1989; 1991). Этого достаточно, чтобы предположить сильную негативную корреляцию между политической централизацией и эффективностью трансформации энергии 20 . Однако интенсивность зем леделия позитивно коррелирует и с общей социокультурной сложностью (Ember 1963;Textor 1967, Computer Printout: 91/53,55; 92/54,56; 93/ 54; Ember & Levinson 1991; &с). Тем не менее имеются некоторые основания полагать, что в более политически централизованных сложных доиндустриальных обществах эффективность трансформации энергии была еще ниже, чем в политически менее централизованных обществах со сравнимым уровнем сложности. В самом деле, в доиндустриальных обществах политическая централизация почти всегда сопровождается уменьшением контролируемости центральной администрации (в ранних государствах контролируемость всегда ниже, чем в вождествах, а в империях — еще ниже, чем в ранних государствах [см., например: Коротаев, Блюмхен 1991]).
Таким образом, при росте политической централизации объемы энергии, аккумулируемой административным центром, обычно значительно увеличиваются, но вместе с тем не менее значительно падает и степень контролируемости этого центра. В результате использование аккумулированных ресурсов становится особенно неэффективным: центр получает гигантские ресурсы вроде бы безвозмездно, а надежные средства для контроля над эффективностью их использования отсутствуют 21 .
Сложные безгосударственные системы обычно контролируют значительно меньшие объемы энергии по сравнению с доиндустриальны-ми империями. Вместе с тем эффективность использования этих (обычно скромных по объему) ресурсов, аккумулируемых политическими центрами таких объединений (а они обычно характеризуются высокой долей политического участия их населения) бывает, как правило, заметно выше по сравнению с гигантскими доиндустриальными империями. Происходит это за счет более жесткого контроля за эффективностью использования аккумулированных ресурсов22 .
Таким образом, на уровне взаимодействия между первым и вторым параметрами общей эволюции Салинза мы опять находим целый ряд важных альтернатив социокультурного развития23 .
И наконец, рассмотрим корреляцию между салинзовыми первым и третьим параметрами общей эволюции — «переходом от менее высоких к более высоким уровням трансформации энергии[1]», и «движением от меньшей к большей общей адаптивности [3]». На первый взгляд сильная корреляция между объемом энергии, трансформируемым данной культурной системой и ее более высокой общей адаптивностью, кажется самоочевидной. Но опять же только на первый взгляд. При более внимательном рассмотрении исследователь будет вынужден задать себе, скажем, такой вопрос: является ли стабильность адаптации важной внутренней характеристикой показателя общей адаптивности? Конечно, да. Но если мы примем во внимание это обстоятельство, то сразу же поймем, что решающее значение имеет не просто объем энергии, который данная культурная система извлекает из природного окружения, а то, какой вид ресурсов используется — восстановимый или ограниченный невозобновляемый. Общая адаптивность системы безусловно возрастает только тогда, когда эта система получает увеличивающийся объем энергии за счет восстановимых ресурсов 23 . В противном случае (т.е. если система использует ограниченные невозобновляемые ресурсы) ее адаптация может рассматриваться лишь как временно стабильная. Мы можем утверждать, что данная культурная система действительно адаптирована к своему природному окружению лишь в том случае, когда большая часть используемой ею энергии поступает не из ограниченных невозобновляемых ресурсов и когда скорость потребления энергии не превышает значительно скорость возобновления энергетических ресурсов.
В этом отношении далеко не ясно, являются ли современные сложные индустриальные системы лучше приспособленными к природному окружению, чем системы простых охотников-собирателей (или даже чем среднесложные системы доиндустриальных интенсивных земледельцев), поскольку первые осуществляют свое воспроизводство прежде всего именно за счет ограниченных невозобновляемых энергетических ресурсов. По-видимому, слишком рано утверждать, что современная мир-система лучше адаптирована к природной среде нашей планеты по сравнению с предшествовавшими ей историческими системами. Мы сможем с уверенностью утверждать это лишь тогда, когда наша система докажет свою способность перейти к модели устойчивого развития («sustainable development»), не превращаясь в качественно новую систему (ведь в этом случае высокую адаптивность докажет именно эта новая, а не современная, мир-система), да к тому же сможет совершить такой переход некатастрофическим путем (что до сих пор отнюдь не самоочевидно — см. главу Васильева).
В целом существует негативная корреляция между объемом энергии, который данная культурная система извлекает из природной среды, и стабильностью адаптации этой системы. Чем больший объем энергии потребляет данная социокультурная система, тем более трудным для нее является обеспечение полного восстановления своей энергетической базы.
Кстати, возникает вопрос, существует ли в принципе «общая адаптивность», и насколько полезным является это теоретическое понятие? Похоже, что адаптивность является не одномерной переменной, но опять же — группой слабо (а иногда негативно) скоррелированых многомерных параметров. Общество А может быть более адаптивно, чем общество Б в одном отношении и менее адаптивно — в другом.
Весь комплекс проблем дополнительно осложняется следующим обстоятельством. Уже Салинзу пришлось, по сути дела, разбить его параметр «общей адаптивности» на два — адаптивность к природной среде, с одной стороны, и к внешней социокультурной — с другой. А ведь отношение между трансформацией энергии и адаптивностью второго рода исключительно сложно. Какие «культурные формы имели тенденцию доминировать и вытеснять» другие формы на протяжении большей части человеческой истории?25 Ответ здесь довольно прост и непривлекателен — те из них, что были сильнее в военном отношении. Таким образом, для адаптивности второго типа имеет значение не общее количество энергии, трансформируемой данной культурной системой, а только то количество энергии, которую эта система аккумулирует и направляет на военные цели (как, впрочем, и то, насколько эффективно она это делает). В результате культурные формы, трансформирующие меньшие количества энергии, но более эффективно использующие ту часть энергии, которая обеспечивает военные нужды, на протяжении большей части человеческой истории обычно теснили те культуры, которые контролировали большие объемы энергии, но направляли на достижение военных целей меньшую ее часть и использовали ее менее эффективно. Приведенные выше примеры взаимоотношений нуэр и динка или галла и эфиопского государства XVI в. служат хорошими иллюстрациями этой закономерности. Они, конечно, могут быть легко дополнены большим количеством аналогичных примеров из истории отношений между кочевниками и земледельцами Евразии и Северной Африки.
Таким образом, на уровне взаимодействия салинзовых первого и третьего параметров общей эволюции мы также находим значимые альтернативы социокультурного развития.
Несмотря на то, что Салинз пытался представить свой подход в качестве истинно многолинейного, на деле эта была попытка спасти именно однолинейный подход, самое его ядро. Признав монголинейность эволюции в целом, он фактически попытался доказать однолинейность социокультурного развития. Единственно реальной альтернативой в рамках псевдомноголинейной модели Салинза оказывается лишь движение вверх или вниз вдоль единой линии общей эволюции. Салинз, таким образом, признает неоднолинейность социальной эволюции, но настаивает на однолинейности социокультурного развития (в том виде, как оно определено в начале данной главы), упуская из вида самые интересные эволюционные альтернативы — альтернативы социокультурного развития. Действительно, самые важные эволюционные альтернативы вовсе не сводятся к тому, развивается данная социальная система или нет. Значительно более важно, в каком именно направлении идет это развитие.
Нелинейные подходы
Итак, многолинейный подход Салинза оказывается на поверку вполне однолинейным. Однако и действительно многолинейный подход нам также не представляется адекватным. В самом деле, если однолинейный подход предполагает существование одной функциональной зависимости, то подход многолинейный оказывается лишь его псевдоальтернативой, ибо вместо одной функциональной зависимости он постулирует существование нескольких подобного рода зависимостей, действующих для разного типа обществ. Вместе с тем все дело как раз в том и заключается, что реальное существование подобного рода зависимостей для социальной эволюции так пока никому доказать не удалось.
Чем точнее мы сможем измерить те или иные социологические показатели, тем больше возможных вариантов эволюции нам удастся рассчитать. В пределе мы получим некое многомерное пространство — поле (измерениями которого служат показатели социальной эволюции), каждой точке которого (в реальности, конечно, зоне, а не точке) будет соответствовать определенное значение вероятности подобного варианта. Таким образом, мы полагаем, что имеет смысл говорить не о линиях эволюции, а о непрерывном эволюционном поле. При этом в рамках данного поля мы вовсе не наблюдаем такой ситуации, что движение в любом направлении — в равной степени возможно. Движение в некоторых направлениях в его рамках оказывается в принципе невозможным, в то время как движение в одном направлении будет менее вероятным, чем в другом.
Конечно же, человеческим существам (в особенности не имеющим профессионального математического образования) трудно иметь дело на практике с многомерными пространствами. Поэтому мы предлагаем начать работу с двухмерных сечений соответствующих эволюционных полей. К тому же невозможно непосредственно измерить вероятность социальных процессов. Однако и здесь выход достаточно известен. Вероятность определенных состояний обычно оценивается по величинам соответствующих частотностей.
Практическое заключение из этих соображений заключается в том, что мы можем рассматривать обычные кросстабуляции социоэволю-ционных переменных как приближенные модели структуры двумерных сечений многомерного эволюционного поля вероятности.
Нужно отметить, что обычная методика формальных кросс-культурных исследований, сводящаяся, по сути, к "охоте за корреляциями" (см., скажем: Levinson, Malone 1981; Peregrine, Gray 1993), приводит к тому, что мимо внимания исследователей проходят многие важнейшие информационные ресурсы, потенциально содержащиеся в кросскультурных базах данных. Количественно выразить силу связи двух отображенных в таблице параметров зачастую означает извлечь из нее лишь небольшую часть содержащейся в ней информации. Мы полагаем, что картина распределения, выражаемая через таблицу, нередко представляет интерес сама по себе, давая возможность оценить структуру эволюционного поля вероятности.
Проиллюстрировать упрощенную двухмерную нелинейную модель социальной эволюции можно на следующем несложном примере. Рассмотрим соотношение между уровнем сложности общины и числом уровней надобщинной политической интеграции.
К настоящему времени единственная попытка количественного кросс-культурного исследования зависимости между двумя данными переменными принадлежит Бефу (Befu 1966). Гипотеза его заключалась в том, что при росте сложности надобщинных структур сложность общины также будет увеличиваться. Однако Бефу нашел лишь довольно слабое статистическое подтверждение своей гипотезы: хотя направление корреляции между числом надобщинных уровней политической интеграции и числом общинных должностей совпало с предсказанным направлением, сама корреляция оказалась статистически незначимой (0,20
Как мы увидим ниже, корреляция эта действительно существует. Однако реальная картина зависимости между двумя указанными величинами представляется значительно более сложной и интересной.
Для своего второго статистического теста Бефу использовал опубликованную к тому времени часть базы данных (БД) Дж.П. Мердока. Начнем с того, что эта база данных не является вполне репрезентативной. Мы попробовали повторить статистические тесты Бефу, используя самые большие из доступныхв настоящее время репрезентативных БД — базу данных для Standard Cross-Cultural Sample Дж.П.Мердока и Д. Уайта [Murdock & White 1969; Murdock & Wilson 1972; Barry & Schlegel 1980; Murdock & Wilson 1985; MAPTAB 1997], a также БД для выборки Atlas of World Cultures Дж. П. Мердока (Murdock 1967; 1981; Murdock el al. 1986; 1990). С формальной точки зрения результаты Бефу оказались воспроизведенными — корреляция между числом уровней надобщинной политической интеграции и числом уровней структурной иерархии внутри общины оказалась как для Standard Cross-Cultural Sample, так и для Atlas of World Cultures в предсказанном направлении; для Standard Cross-Cultural Sample она статистически незначима (r = 0,085, a = 0,248; р = 0,121, a = 0,099). Однако для значительно большей по размеру выборки БД Atlas of World Cultures значимость была выше (р =0,172, a
Кросстабуляция для БД Standard Cross-Cultural Sample выглядит следующим образом (табл. 1).
Нетрудно видеть, что на самом деле положительная корреляция между двумя рассматриваемыми переменными наблюдается лишь в двух зонах кросстабуляции, в то время как в двух других зонах корреляция эта отрицательна (табл. 2).
Эту картину совсем не сложно проинтерпретировать качественно. Первая зона положительной корреляции (ЗОНА 1 ) может быть легко проинтерпретирована в рамках политогенетической модели Карнейро (Carneiro 1970; 1981;! 987 &с). В самом деле, в рамках этой модели предполагается, что самые ранние суверенные надобщинные уровни политической интеграции обычно формируются в результате завоевания одной общиной нескольких других, и нужно ожидать, что для того, чтобы устойчиво подчинить себе другую общину, община-завоеватель должна иметь достаточно сложную структуру. Поэтому то наблюдение, что на ранних стадиях политической эволюции рост надобщин-ных структур происходит одновременно с ростом сложности внутри-общинных структур, не вызывает никакого удивления. Однако после достижения надобщиннными структурами определенного уровня сложности они зачастую начинают отбирать у внутриобщинных структур многие важные функции. Например, развитое государство обычно монополизирует такие функции, как военные или внешнеполитические (дипломатические); в результате, соответствующие субсистемы в общинной структуре атрофируются и исчезают. Как следствие этих процессов сложность общин начинает уменьшаться (ЗОНА 2-)26 .
ЗОНА 2 положительной корреляции также не выглядит случайной. По всей видимости, она соответствует определенным альтернативам эволюции сложных обществ, когда общины оказываются достаточно сильны для того, чтобы противостоять давлению развитого государства и сохранить большую часть своих функций (как это произошло, например, в средневековой Северной Индии [например: Алаев 1981]), или когда государство делегирует некоторые свои функции общинам —тогда рост сложности внутри- и надобщинных структур снова происходит одновременно (как это наблюдалось, например, в России XV-XVIII вв.). Собственно говоря, Бефу и имел в виду именно подобную эволюционную альтернативу, когда выдвигал свою гипотезу. Таким образом, Бефу имел некоторые основания для своей гипотезы, однако то, что он представил в качестве главной эволюционной закономерности, применительно к сложным обществам оказывается, скорее, довольно редкой эволюционной альтернативой. Итак, там, где Бефу ожидал найти простую линейную закономерность, мы на самом деле находим значительно более сложный нелинейный процесс с несколькими эволюционными альтернативами.
Но и это не все. Имеет смысл рассмотреть самостоятельно верхнюю часть пограничной зоны между левой и правой половинами таблицы, где обнаруживается еще одна зона отрицательной корреляции (ЗОНА 1-). Эта зона (совместно с ЗОНОЙ 1 ), по-видимому, соответствует эволюционной альтернативе развитию жестких надобщинных политических структур (chifdom — complex chiefdom — state) через усложнение внутриобщинных структур совместно с созданием мягких надобщинных систем, не отчуждающих суверенитета (разнообразные конфедерации, амфиктионии и т.д.). Одним из наиболее впечатляющих результатов развития в этом эволюционном направлении является греческий полис — некоторые полисы достигали уровня сложности, сопоставимого не только с вождеством, но и с государством, и оказали огромное воздействие на весь ход мировой истории (Berent 1994; 1998; Коротаев 1995а; см. также главу Берента).
Собственно говоря, в табл. 1 статистически значима только корреляция в ЗОНЕ 1 . Однако при попытки повторить статистические тесты с использованием заметно большей по размеру БД Atlas of World Cultures Дж. П. Мердока (555 обществ — самая большая релевантная репрезентативная БД) мы получаем удивительно сходное корреляционное распределение (табл. 3).
Нетрудно видеть, что корреляционное распределение в этом случае просто идентично с предыдущим. Структура распределения даже стала более четкой. Статистически значимая корреляция наблюдается теперь не только в ЗОНЕ 1 , но и в ЗОНЕ 2- Корреляция в ЗОНЕ 2 уже близка к порогу статистической значимости. Корреляция в ЗОНЕ 1- все еще далека от этого порога, что, на наш взгляд, объясняется тем обстоятельством, что сверхсложные суверенные гражданские общины (например, греческие полисы, римская civitas, сверхсложные суверенные гражданские общины раннесредневековой Далмации, средневековой Швейцарии или Дагестана XVIII в.) практически не представлены в антропологических БД. Удивляет поэтому, скорее, то обстоятельство, что обе кросстабуляции все-таки фиксируют данную эволюционную альтернативу.
Результаты проведенного анализа могут быть представлены в виде диаграммы на рис. 1.
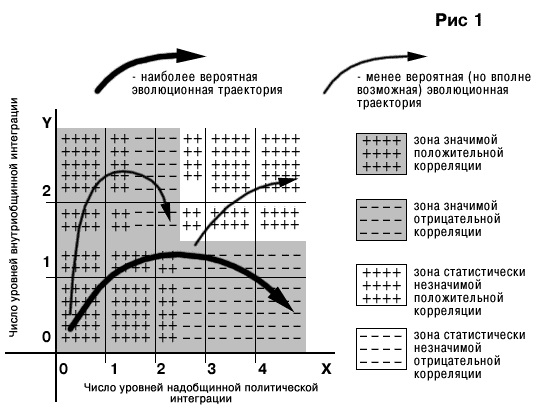
Однако и эта диаграмма дает лишь упрощенную картину. Модель по-прежнему остается многолинейной, а не нелинейной. Действительно, проанализированные данные не исключают возможности и значительного числа иных эволюционных траекторий, например представленных диаграммой на рис. 2.
По сути дела, проанализированные данные не исключают возможности эволюционного движения из любой точки рассматриваемого поля в любую другую. Таким образом, изображение всех возможных здесь эволюционных траекторий будет выглядеть следующим образом (см. диаграмму на рис. 3).
Вполне ясно, что подобное изображение трудно признать сколько-нибудь полезным. Для того чтобы одновременно учесть и все возможные эволюционные траектории, и их неравноценность, а также, чтобы оценить структуру эволюционного поля вероятности можно воспользоваться все той же кросстабуляцией, интерпретируя ее именно как приближенную оценку структуры данного поля. Более частотные сочетания характеристик в пределах данного класса случаев при таком подходе рассматриваются как более вероятные.
Представим проанализированную выше кросс-табуляцию в виде диаграммы, приведенной на рис. 4, где показано эволюционное поле вероятности.
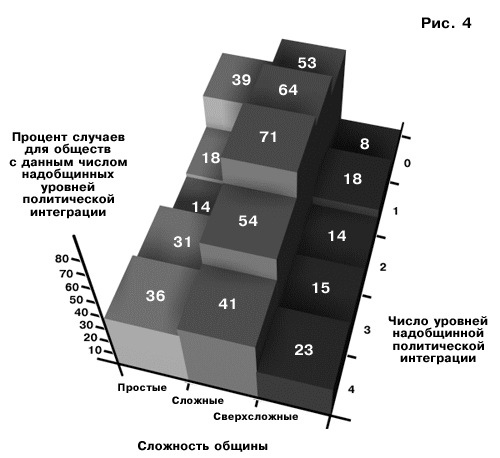
Цифры на диаграммах указывают процент обществ с данным уровнем сложности общины среди обществ с данным числом уровней на-добщинной интеграции. Например, число 54 в верхней части центрального столбца ряда 3 означает, что 54% всех обществ с тремя уровнями надобщинной политической интеграции имеют сложные общины, а число 41 по соседству заставляет предположить, что с переходом от трех-к четырехуровневым надобщинным политическим системам сохранение сложных общинных структур становится менее вероятным, в то время как повышается вероятность появления как сверхсложных, так и упрощенных общин (о чем напоминает сравнительная высота соответствующих столбцов). В целом, чем больше относительная высота столбца в данном ряду, тем выше вероятность развития соответствующего типа общинной организации среди обществ с указанным числом на-добщинных уровней политической интеграции. Сравнительная оценка столбцов в двух смежных рядах позволяет также оценить вероятность разных направлений трансформации общинных структур при надстраивании соответствующего уровня надобщинной иерархии. Диаграмма вполне определенно описывает обсуждавшиеся выше эволюционные альтернативы: развитие общинных структур до определенного уровня должно с высокой вероятностью предшествовать появлению надобщинных интеграционных уровней; вплоть до появления второго надобщинного уровня развитие внутриобщинных и надобщинных структур сопровождается их усложнением, однако после появления второго надобщинного уровня появляется тенденция к росту процента как наиболее простых, так и наиболее сложных общин, при том что вероятность сохранения сложной (в противоположность как простой, так и сверхсложной) общины начинает все более и более уменьшаться). И т.д.
Таким образом, мы полагаем, что диаграмма 4 может вполне использоваться для приблизительной оценки возможной структуры соответствующего среза эволюционного поля вероятности, в качестве простой нелинейной эволюционной модели.
Вместе с тем однако, очевидно, что для получения более точных оценок структуры эволюционного поля вероятности необходимо добавление в существующие антропологические БД социоантропогических данных исторических источников.
Заключение
В первых трех разделах мы рассмотрели различные теории эволюции и пришли к заключению, что с точки зрения современного развития культурной антропологии теория однолинейной эволюция могла бы быть оправданной, если бы существовала стопроцентная зависимость между всеми основными одномерными показателями социальной эволюции. Однако в реальности более чем за сто лет поисков не удалось зафиксировать столь жестких корреляций ни для одной пары значимых эволюционных показателей. В то же время и многолинейный подход является лишь «псевдоальтернативой» однолинейных теорий, поскольку вместо одной функциональной зависимости он постулирует существование нескольких подобного рода зависимостей, действующих для разного типа обществ.
С этой точки зрения оправданным представляется говорить не о линии, не о плоскости или даже не о трехмерном пространстве, а только о многомерном пространстве — поле социальной эволюции. Чем точнее мы сможем измерить те или иные социологические показатели, тем больше возможных вариантов эволюции сможем рассчитать. В пределе получим некое многомерное пространство — поле (измерениями которого служат показатели социальной эволюции), каждой точке которого (в реальности, конечно, зоне, а не точке) будет соответствовать определенное значение вероятности подобного варианта.
Итак, мы полагаем, что имеет смысл говорить не о линиях эволюции, а о непрерывном эволюционном поле. При этом в рамках этого поля мы вовсе не наблюдаем такой ситуации, при которой движение в любом направлении возможно в равной степени. Движение в некоторых направлениях в его рамках оказывается в принципе невозможным, в то время как движение в одном направлении будет менее вероятным, чем в другом. Переход к более адекватному пониманию социоэволюционных процессов может быть достигнут, на наш взгляд, через отказ как от однолинейных, так и многолинейных схем социальной эволюции и через последующую разработку ее нелинейных моделей.
1. Впрочем, какой-то (хотя в любом случае и неполный) аналог этой дихотомии, вероятно, можно все-таки найти и в общественной жизни. Действительно, развитие обществ на определенных временных отрезках можно, видимо, рассматривать как в высокой степени запрограмированное существующими в них системами культурных кодов, ценностей и структурами власти. В этом случае под эволюционными сдвигами нужно было бы понимать именно изменения "программирующих" систем и структур, оказывающие свое воздействие на ход и направление развития соответствующих обществ. Подобный подход к теории социальной эволюции кажется вполне возможным и перспективным. Вместе с тем в данной коллективной монографии для достижения ее концептуального единства было решено последовательно придерживаться "классеновско-го" понимания эволюции.
2. Хотя в последнее время оно, судя по всему, начинает снова туда возвращаться (см., например: Sanderson 1995: 336).
3. Как кажется, именно эта связь понятия «прогресс» с достаточно субъективными, никогда не объективируемыми полностью категориями добра и зла и привела к отторжению этой категории, стремившейся к полной объективности, «научности», западной антропологией. Мы все-таки склонны рассматривать это как акт интеллектуальной трусости. Конечно, исследователю крайне сложно работать с такими в высокой степени оценочными понятиями, имеющими мощнейшую этическую окраску; открытая работа с такими понятиями к тому же, на наш взгляд, возлагает на исследователя большую моральную ответственность. Тем не менее ни к чему хорошему подобная интеллектуальная (и моральная) трусость не ведет. Социальная наука либо становится «стерильной», либо эти во многом субъективные категории незаметно протаскиваются в «объективные» научные исследования в скрытом виде. В результате происходит самое худшее (и при этом именно то, для чего западная наука и предпринимала свое «бегство от прогресса»): по сути своей оценочные суждения, делать которые ученый компетентен ничуть не более, чем любой обладающий моральной интуицией «простой смертный», преподносятся под видом объективных умозаключений, имеющих несравненно большую ценность, чем мнения последних.
4. А если в нас есть хоть капля сочувствия к людям, живущим в иных обществах, если нам не совсем безразличны их страдания, то все сказанное будет верно и для социальных процессов, идущих там.
5. А обществу невозможно отказать в праве ждать от антрополога подобных рекомендаций.
6. В подобном контексте в качестве единственной направленной движущей силы социального прогресса будет выступать стремление людей [страшно сказать!] к добру. Конечно, с изменением представлений исследователя о том, что нужно считать добром, а что — злом, то, что казалось ему движущей силой прогресса, может уже начать ему представляться фактором «антипрогресса» (или, скажем, фактором, этически нейтральным). Однако если его ценности и представления о должном разделяются (и разделялись) хоть сколько-нибудь заметным числом людей, он всегда обнаружит присутствие этой движущей силы (хотя при этом будут несколько меняться ее носители). Не нужно, конечно, недооценивать и значимости в представлениях о должном общих элементов, разделяемых большинством людей. В условиях эффективной демократической администрации оказывается возможной, по крайней мере, такая ситуация, когда наблюдается социальная эволюция по направлению к «лучшему» с точки зрения большинства граждан. Действительно, развитая демократия и представляет собой собой во многом именно не слишком оперативную, но вполне эффективную систему обратной связи, периодически корректирующую направление эволюции общества в соответствии с желаниями основной массы его активных членов. Субъективные ощущения большинства становятся значимым фактором социальной эволюции данного общества (преобладающей части граждан кажется, что стало хуже, чем было четыре года назад, и даже если по «объективным» статистическим данным стало лучше, происходит смена правящей партии — и наоборот). И явную тенденцию к заметному превышению удельного веса прогрессивных составляющих над антипрогрессивными, наметившуюся за последние десятилетия в социальной эволюции некоторых наиболее развитых сообществ мира, следует, на наш взгляд, связать именно с этим обстоятельством.
7. В одной из наших недавних работ (Коротаев 1995б) мы, впрочем, затратили не одну страницу, отстаивая право исследователя на свое собственное определение научного термина и доказывая то, что определение научного термина вообще не может быть ложным. Противоречия с нашими теперешними словами здесь нет. Дело просто в том, что «прогресс» — это не только строго научный термин, но и слово естественного языка, широко применяемое в политическом дискурсе. То или иное определение прогресса, задающее ему некоторые объективные критерии, конечно, не может рассматриваться в качестве ложного (но, впрочем, и истинного) с чисто научной точки зрения. Однако, учитывая реальные этические коннотации этого слова, подобные определения не могут считаться верными по вненаучным (но от этого не менее важным) морально-этическим причинам.
8. Необходимо подчеркнуть, что характеристикой племенной организации логичнее все-таки было бы считать не столько сами конфликты между составляющими племя «резидентными группами», которые характеризуют и первобытные сообщества, не имеющие племенной организации (Сервис относит последние к «the band level ofsociocultural integration» [Service 1971 [1962]: 46-98]), а то, что племенная организация ставит эти конфликты в определенные рамки, заставляет стороны конфликтовать по определенным правилам, предоставляет в распоряжение сторон зачастую крайне развитые механизмы посредничества и т.п., нередко вполне эффективно блокируя потенциально крайне де-зинтегрирующие следствия подобных конфликтов, но не отчуждая вместе с тем «суверенитета» резидентных групп (Сервис в общем-то говорит об этом на последующих страницах, но, на наш взгляд, недостаточно четко). Необходимо также отметить, что описанная Сервисом ситуация может быть связана не обязательно лишь с полным отсутствием каких-либо надплеменных политических структур (higher authority), а с их слабостью (как это наблюдается для большинства племен Ближнего и Среднего Востока); слабость же подобных структур в «племенных районах» может быть в свою очередь нередко связана именно с эффективностью племенной организации, позволяющей достаточно высокоразвитому населению обходиться без организации государственной.
9. В настоящее время мы склонны предполагать, что Ближний и Средний Восток был одним из очень немногих регионов, где племя как особая форма политической организации получило широкое распространение. По-видимому, племена также фиксируются как определенная фаза в циклических процессах "вождество — племя — вождество" среди кочевников Центральной Азии и Дальнего Востока (Kradin 1993; 1994; см. также главу Крадина в этой монографии). Некоторые политические системы североамериканских индейцев (см., например: Hoebel 1977) также, видимо, могут обоснованно рассматриваться как племена. Однако в подобных случаях не видно никаких оснований рассматривать племя как эволюционного предшественника вождества, а не наоборот. В большинстве же других регионов то, что обозначается как "племена", представляет собою этнические (а не политические) образования, общины или вождества (множество подобно рода примеров приводится Фридом [Fried 1967; 1975]). Поэтому в подобных случаях нет никакой особой необходимости говорить о племени как особой форме политической организации — именно поэтому исследователи, специализирующиеся на изучении таких регионов, и полагают зачастую, что племя есть категория излишняя.
10. Несомненно, более внимательное изучение неспециализированных охотников-собирателей (базирующееся на антропологической интерпретации археологических материалов) выявит в будущем и другие типы их социополитической организации.
11. Термин mandala уже начал применяться к социально-политическим системам вне собственно Индии именно к тем системам, которые мы называем «мультилолитиями» (см., например: Christie 1995). Кристи, похоже, рассматривает такие социополитические системы в качестве необычных случаев (например: Christie 1995: 269), в то время как Классен (1996), соглашаясь с ней в данном вопросе, рассматривает центры таких систем, как вполне типичные ранние государства. Мы со своей стороны полагаем, что такие системы не являлись необычными для большинства (но не всех) досовреиенных круп» ных политических объединений («империй»). При более внимательном изучении они оказываются мультиполитиями (mandala), а не монополитиями (государствами).
12. Для характеристики данного типа общества Г.Е.Марков, П.Бонт и Н.Э. Масанов использовали термин — номадный способ производства.
13. Двумя столетиями ранее этот факт был отмечен и объяснен Ибн Халдуном (Ibn Khalddn 1995), врочем, на наш взгляд, менее убедительно, чем это было сделано Бахрейем.
14. Dabtara (Прим. ред.).
15. Мп Havana (Прим. ред.).
16. Jan Ma'asare (Прим. ред.).
17. Semagel!e (Прим. ред.).
18. Qanda kabaro (Прим. ред.).
19. Перевод Бекичгхэма — Хаптингфорда: «The ninth group is that of the wandering singers, those who play the qanda kabaro [a small drum] and the bagana, whose profession is to beg, to collect money» (Bahrey 1954 [1593]: 126) (Прим. ред.).
20. По крайней мере для периода до 1970-х годов.
21. В качестве живого свидетельства непосредственного очевидца расточительного использования аккумулированных ресурсов в самом центре доиндустриальной империи см. воспоминания последнего китайского императора (Пу И, 1968).
22. Хороший пример в этом отношении дает история греко-персидских войн, в которых греческие полисы смогли использовать свои скромные ресурсы значительно более эффективно, чем Персидская империя.
23. Необходимо, тем не менее, отметить возможнсть выявления сильной корреляции между некоторыми измерениями этих двух групп параметров. Для того чтобы сделать это, мы должны отобрать наиболее интегративные индикаторы. В пределах первой группы параметров вместо раздельного анализа объемов энергии, трансформируемой культурными системами, и мер эффективности этой трансформации представляется необхо димым рассматривать интегративную переменную — объем эффективно трансформированной энергии. В пределах второй группы параметров представляется необходимым рассматривать показатели совокупной социокультурной сложности вместо только лишь одного из них — уровня социальной интеграции. В данном случае корреляция между этими показателями вполне может оказаться равной 1. Однако возникает вопрос: не столкнемся ли мы в данном случае с автокорреляцией? В самом деле, объем энергии, трансформируемой данным социумом (в первую очередь для поддержания и развития соответствующего уровня сложности), может вполне рассматриваться как термодинамическая мера данного уровня сложности. Таким образом, в этом случае мы стали бы измерять корреляцию между двумя выражениями, по сути, одной и той же переменной.
24. Само собой разумеется, что здесь необходимы два дополнительных условия: 1) темпы падения эффективности использования энергии не должны превышать темпов роста объема трансформируемой энергии; 2) объем энергии, потребляемый за данный промежуток времени, не должен превышать объем энергии, возобновляемой за тот же промежуток времени.
25. По крайней мере до наступления эпохи термоядерного оружия.
26. Нетрудно объяснить, почему начальный анализ этих данных обнаружил существенную положительную корреляцию. Причина в том, что в базах данных Мердока, как это хорошо известно, сложные общества сильно недопредставлены. В результате, поскольку в выборках Мердока число простых обществ многократно превосходит число сложных обществ, позитивная корреляция, характерная для простых обществ, оттесняет на задний план негативную корреляцию, типичную для более сложных обществ.
27. Только в наиболее репрезентативной по своей структуре стандартной кросс-культурной выборке влияние негативной корреляции оказалось достаточно сильным для того, чтобы хотя бы частично нейтрализовать влияние значимой позитивной корреляции, в результате чего на выходе получилась статистически незначимая слабая положительная корреляция.
Источник: "Альтернативные пути к цивилизации": Кол.монография / Под ред. Н.Н. Крадина, А.В. Коротаева, Д.М. Бондаренко, В.А. Лынши. — М.: Логос, 2000 г.
|